Читать онлайн «Философия человека и общества», Екатерина Помигуева – Литрес
Первые попытки в определении сущности человека, его места в мире как отдельной мировоззренческой проблемы были предприняты еще в Античной философии. Философские и социально-политические учения древних греков и римлян отражали стремление отделить человека от Космоса. Античные философы сформулировали принцип разумного миропонимания и провозгласили человека как самостоятельную ценность, признав за ним возможность проявления инициативы.
Античной философии принадлежит мысль о возвышении человеческого самосознания над всей природой. Для этого человеческий род должен обладать особенными возможностями для развития, отличными от элементарных способов действия растений и животных. Такой движущей силой становится разум (логос, рацио).
Разум способствует пониманию и оценке человеком всего сущего (Бога, мира, себя самого). Разум позволяет человеку поступать целесообразно, осознанно организовывать окружающую действительность. Греческая история провозглашает идею, которой покоряются все народы, идею человеческой способности отождествления себя со всем лучшим. Человеческий разум представляется божественной силой духа, заново являющей мир, его упорядоченность как вечное движение и созидание.
Греческая история провозглашает идею, которой покоряются все народы, идею человеческой способности отождествления себя со всем лучшим. Человеческий разум представляется божественной силой духа, заново являющей мир, его упорядоченность как вечное движение и созидание.
Нужно сказать, что идея разума имела различные трактовки у древнегреческих философов. Эмпедоклу (Vв. до н.э.) принадлежит мысль о поочередно действующих в космической эволюции «любви» и «ненависти». Эмпедокл приписывает растениям свойства животных, говоря о них как об одушевленных творениях. Кроме того, он высказывает любопытные предположения о физиологических функциях человека, отводя самую важную роль крови. И, по его мнению, все знания, которые получает человек при помощи восприятия, обусловлены смешением элементов в его теле, в первую очередь, в крови. То есть духовные качества опосредованы телесными свойствами. Сетуя на ограниченные возможности человеческого познания, мыслитель все же утверждал происхождение подлинного знания исключительно из разума, мышления, а не из чувственного восприятия.
Одним из первых, кто выделил человека из окружающего мира и задумался над его оценкой, был Протагор (V в. до н.э.). Признавая только существование материального начала, материи, он называет важнейшим качеством материального мира – изменчивость, которой подвергается и материальный мир, и субъект познания, и объект. Всякая вещь, изменяясь в какой-то момент, объединяет и те свойства, которыми она уже наделена, и те, которыми будет располагать, к тому же такое соединение свойств устойчиво, поскольку изменения в мире постоянны. Вещи видоизменяются, но хранят противоположности в себе, об одном и том же можно высказать контрастные суждения (вещь и черная, и белая одновременно), и они будут истинными, поэтому мыслитель приходит к выводу, что истины как таковой не существует.
И знаменитое высказывание Протагора «Человек есть мера всех вещей» не противоречит его теории. Поскольку все в мире относительно и для каждого человека всегда есть свои критерии истинности и ложности, поэтому мерилом конкретного поступка становится конкретный человек. То есть как кому кажется, так оно и существует, а абсолютной, безотносительной человека истины нет. То, что для одного человека может быть благом, для другого является злом. К тому же критерием истины становится выгода: человек выбирает то, что ему выгодно, поэтому истинно то, что полезно, выгодно. Поэтому каждый человек, отдавая предпочтение тому, что ему кажется истинным, на самом деле делает выбор в пользу того, что ему полезно.
То есть как кому кажется, так оно и существует, а абсолютной, безотносительной человека истины нет. То, что для одного человека может быть благом, для другого является злом. К тому же критерием истины становится выгода: человек выбирает то, что ему выгодно, поэтому истинно то, что полезно, выгодно. Поэтому каждый человек, отдавая предпочтение тому, что ему кажется истинным, на самом деле делает выбор в пользу того, что ему полезно.
По мнению Демокрита (V–IV вв. до н.э.), все в мире состоит из атомов и пустоты, «все существующее разрешается в бесконечное множество первоначальных неделимых вечных и неизменных частиц», вечно движущихся в бесконечном пространстве, периодически сцепляющихся и разлучающихся друг с другом. Отличительная особенность атомов заключается в их неизменности, целостности, непроницаемости. Они вечны, не появляются и не исчезают. Все тела состоят из атомов, и подлинными свойствами вещей являются те, что присущи атомам. А прочие, воспринимаемые органами чувств свойства, такие как вкус, запах, температура и т. п., существуют только в чувственном восприятии человека, а вовсе не в вещах.
п., существуют только в чувственном восприятии человека, а вовсе не в вещах.
Онтология Демокрита заключается в следующем: все вещи образуются из сочетания атомов, и многообразие мира объясняется их соединением и разделением, вещи различаются количеством атомов, формой, их порядком и положением; атомы постоянно движутся в опоясывающей их пустоте и место, которое занимает атом, абсолютно случайно.
По мнению Демокрита, человек – это также скопление атомов, которое отличается от других существ наличием души. Это «животное, от природы способное ко всякому учению и имеющее помощником во всем руки, рассудок и умственную гибкость. Если у животных главное – тело, то у человека – душевный склад, именно он определяет, счастлив кто-то или несчастлив». Познание Демокрит тоже толкует исходя из своей атомистической теории. Он трактует познание мира на основе принципа «истечения», согласно которому процесс познания заключается в восприятии человеком влияния на него тел через надлежащие органы чувств.
Появление философии человека как отдельной области знания связано с именем древнегреческого философа Сократа (V–IV в. до н.э.). Человека признали существом, вызывающим интерес самого к себе. Сократ пытался найти в сознании, мышлении человека такую прочную и твердую опору, которая бы выдержала здание нравственности и всей общественной жизни, в том числе и государства. По его мнению, недостаточно перечислить некоторые качества и добродетели человека, как было принято в философии до него.
Нужно сказать, что и Сократ тоже сформулировал несколько человеческих добродетелей, прежде всего выделяющих человека из мира животных: умеренность (знание как обуздывать страсть), храбрость/доблесть (знание как преодолевать опасности) и справедливость (знание как соблюдать законы божественные и человеческие). Философ отмечал, что человек исключителен именно разумом, пониманием. С этого момента разум становится основополагающим свойством человека, специфичной движущей силой, отсутствующей у животных и растений. Человек обладает возможностями проникновения в сферу собственных мыслей, критического их осмысления, рассуждения, познания, выстраивания логических умозаключений. Он опирается на сознание, а не только на инстинкты. Сократ полагал, что поступки человека обусловлены его осведомленностью, и зло люди совершают по заблуждению. Он верил, что, если человек знает, что именно хорошо, а что плохо, то он никогда не поступит дурно, следовательно, чтобы ликвидировать эту неосведомленность, нужно познать, что такое добро и зло, прекрасное и безобразное, истина – ложь. Постепенно формируется образ человека разумного, который становится стержнем всей европейской культуры. Сократ изображает человека постоянно ищущим себя существом, которое переосмысливает условия собственного существования, и, столкнувшись с разумным вопросом, может дать разумный ответ, что и делает его моральным, «ответственным» существом. Возвысив разум и наделив его всепроникающей мощью, Сократ подчинил разуму все космические и земные феномены.
Человек обладает возможностями проникновения в сферу собственных мыслей, критического их осмысления, рассуждения, познания, выстраивания логических умозаключений. Он опирается на сознание, а не только на инстинкты. Сократ полагал, что поступки человека обусловлены его осведомленностью, и зло люди совершают по заблуждению. Он верил, что, если человек знает, что именно хорошо, а что плохо, то он никогда не поступит дурно, следовательно, чтобы ликвидировать эту неосведомленность, нужно познать, что такое добро и зло, прекрасное и безобразное, истина – ложь. Постепенно формируется образ человека разумного, который становится стержнем всей европейской культуры. Сократ изображает человека постоянно ищущим себя существом, которое переосмысливает условия собственного существования, и, столкнувшись с разумным вопросом, может дать разумный ответ, что и делает его моральным, «ответственным» существом. Возвысив разум и наделив его всепроникающей мощью, Сократ подчинил разуму все космические и земные феномены. Знание же стало единственным регулятором человеческого поведения и его достойным критерием.
Знание же стало единственным регулятором человеческого поведения и его достойным критерием.
Платон (V–IV вв. до н.э.), споря с учителем, отмечает, что вопреки тому, что человек знает, как надо себя вести в конкретной ситуации, действуя, он не всегда прислушивается к доводам разума. Философ видит противоречие в том, как ведет себя человек: с одной стороны, в театре он близко к сердцу принимает выдуманные события, восхищается героическими поступками, желает совершить подвиг, с другой стороны, часто остается равнодушен к находящимся в бедственном положении людям, которым необходимо протянуть руку помощи.
Природа человека – его душа (божественное, нетленное начало, превалирующее над преходящим, бренным), связанная с телом. Мыслитель полагает, что душа включает идеально-разумную способность, вожделяюще-волевую, инстинктивно-аффективную, и, то, какая из этих способностей доминирует, влияет на судьбу человека, его деяния. Большая часть людей подчиняется эмоциям и страстям, действуют сообразно своим эгоистическим потребностям, а вовсе не следуют истине, справедливости, разуму. По мнению Платона, человек может быть счастлив исключительно в загробном мире, когда его бессмертная душа, идеальная сущность скинет оковы тленного тела.
По мнению Платона, человек может быть счастлив исключительно в загробном мире, когда его бессмертная душа, идеальная сущность скинет оковы тленного тела.
Объединению людей в обществе, и обеспечению единомыслия в государстве, по мысли философа, могут способствовать коренные преобразования: упразднение семьи и частной собственности, регламентация различных сторон общественной и личной жизни граждан «идеального государства».
Одна из естественных потребностей человека – общение с другими людьми, поскольку он пребывает в человеческом коллективе. Эту мысль развивает Аристотель (IV в. до н.э.), определяя человека как «политическое животное». Способность человека жить в сообществе выделяет его из ряда других живых существ. Философ считает, что человек – это существо, изначально по своей природе предназначенное для общественной жизни. Причем это проявляется не только в уровне организации совместной деятельности, но и в соответствии этическим критериям: разграничении представлений добра и зла, справедливости и несправедливости и т. п. Политические и этические принципы человека проявляют себя как через природу, так и через полис. Естественным и необходимым способом общежития становится государство – совершенная форма, возникающая из потребностей пользы, средство реализации личного блага, естественный продукт семейного и племенного объединения. Обитая же вне государства, человек не является нравственным существом.
п. Политические и этические принципы человека проявляют себя как через природу, так и через полис. Естественным и необходимым способом общежития становится государство – совершенная форма, возникающая из потребностей пользы, средство реализации личного блага, естественный продукт семейного и племенного объединения. Обитая же вне государства, человек не является нравственным существом.
Определяя человека как члена полиса, Аристотель отмечает его природные потребности, дар речи и мышления – все это, по мнению ученого, создает основу государства. Исключительно государство дает возможность человеку удовлетворения своих естественных потребностей и достижения высшей цели – Блага.
Киники (сократическая школа IV в. до н.э., основатель Антисфен) считали, что человек должен зависеть только сам от себя. Проповедуя отрешение от роскоши, известности, отчизны, они отрицали и радость, и чувственное блаженство, и мучение, т.е., по их представлению, чем меньше желаний, тем больше счастья. Призывая «учиться у природы», они отвергали общепринятые правовые и нравственные нормы и обычаи. Единственным, имеющим значение, остается добродетель, заключающаяся в знании.
Призывая «учиться у природы», они отвергали общепринятые правовые и нравственные нормы и обычаи. Единственным, имеющим значение, остается добродетель, заключающаяся в знании.
Киренаики же, напротив, смысл жизни видят в достижении блаженства. Гедонизм раскрывает представление о добродетели как способности наслаждения (Аристипп, V–IV вв. до н.э.). Ценность науки также состоит в том, чтобы готовить человека к истинному удовольствию. Ну а наибольшее счастье достигается путем рассудительного самообладания.
Таким образом, в античной философии человек – это разумное существо, которому свойственны поиски моральных мотивов поведения. В центре внимания находится человек разумный, цельный, гармоничный, возвышенный. Чем глубже ученые проникают в сферу человеческой субъективности, тем больше возникает противоречий в сущности человеческой природы. Появляются вопросы: «Какова природа человека? Чем человеческая душа отличается от окружающей природы? Какова сущность человеческого сознания? Почему человек склонен к безрассудству? Антропологическая тема завоевывает все новые умы и становится острее и напряженнее.
С возникновением христианства проблема человека рассматривается в новом ракурсе. Основа христианского мировоззрения – ветхозаветные воззрения о вездесущем, всемогущем, вечном Боге – источнике бытия всего в мире и самого мира. Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, становится высшей целью мироздания, он наделен разумом, духовностью и отмечен знаком Божественного предназначения, что делает его уникальным.
Появляется понятие индивид (от лат. Individuum – «неделимое») – отдельный человек как рядовой представитель социума. Средневековые мыслители полагали, что, чтобы постичь индивида, нужно подвергать рассмотрению и все общество, в котором он находится. Но вместе с тем индивид стал основным действующим лицом всех социальных процессов.
Безусловно, эпоху средневековья связывают с мракобесием, крепостничеством, инквизицией, но нужно помнить о том, что религиозно-философский взгляд на человека требует высокой оценки его сущности, жизнедеятельности, предназначения. Проблема человека значительно расширяется: на смену античному, нередко устрашающему, непонятному космоцентризму приходит христианский теоцентризм, где в центре мироздания Бог – носитель нерушимых моральных истин, идеал созидания и добродетели.
Проблема человека значительно расширяется: на смену античному, нередко устрашающему, непонятному космоцентризму приходит христианский теоцентризм, где в центре мироздания Бог – носитель нерушимых моральных истин, идеал созидания и добродетели.
Оксана Тимофеева. История животных
Публикуем полное введение к «Истории животных» Оксаны Тимофеевой — современной российской исследовательницы и автора нескольких работ по философии животных и Жоржу Батаю. В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Вычитывая «звериные» истории из произведений философии и литературы, автор исследует то, что происходит на периферии человеческого существования.
В декабре 2015 года я ездила в Рамаллу, палестинкий город на Западном берегу реки Иордан. Это оккупированные территории, окруженные многокилометровым разделительным барьером, или, попросту говоря, Стеной. Чтобы попасть за стену и обратно, нужно каждый раз проходить через КПП. Один из них называется чекпойнт Каландия — через него я возвращалась обратно. Когда ворота КПП остались позади, я оглянулась: за уродливой серой стеной виднелись крыши и минареты. Стена была высотой метра три, с натянутой поверху колючей проволокой. Над ней пролетела небольшая птица. Только что она была на территории Израиля и вот уже — в Палестине. Тремя годами ранее я окончила работу над первым английским изданием этой книги. В ее последнем абзаце появляется образ животного, пересекающего границы вне каких бы то ни было специально установленных проходных. Тогда это было абстрактное животное. Я придумала его, но никакого конкретного примера у меня в голове не было. Это мог быть любой другой зверь, преодолевающий любые другие заградительные барьеры, но сама история так сложилась, что именно в это время я оказалась именно в этом месте — и увидела эту смелую птицу.
Это оккупированные территории, окруженные многокилометровым разделительным барьером, или, попросту говоря, Стеной. Чтобы попасть за стену и обратно, нужно каждый раз проходить через КПП. Один из них называется чекпойнт Каландия — через него я возвращалась обратно. Когда ворота КПП остались позади, я оглянулась: за уродливой серой стеной виднелись крыши и минареты. Стена была высотой метра три, с натянутой поверху колючей проволокой. Над ней пролетела небольшая птица. Только что она была на территории Израиля и вот уже — в Палестине. Тремя годами ранее я окончила работу над первым английским изданием этой книги. В ее последнем абзаце появляется образ животного, пересекающего границы вне каких бы то ни было специально установленных проходных. Тогда это было абстрактное животное. Я придумала его, но никакого конкретного примера у меня в голове не было. Это мог быть любой другой зверь, преодолевающий любые другие заградительные барьеры, но сама история так сложилась, что именно в это время я оказалась именно в этом месте — и увидела эту смелую птицу.
Название «История животных» не мое. Я намеренно заимствовала его у Аристотеля — чтобы наделить это словосочетание новым смыслом, связав животное и историческое. Я исходила из того, что, хотя животных традиционно относили к некой неисторической природе, у них, конечно, есть история. По крайней мере, их положение в качестве рабочей силы или ресурса наделяет животных собственной исторической материальностью. Логика этой истории не отражается, однако, в зеркале гуманизма и прогресса, представляющем оптимистическую картину будущего, в которой животные окончательно эмансипированы и наделены всеми возможными правами и свободами. Что, если дело обстоит совсем наоборот и со времен первобытного тотемизма, когда люди отступали перед величием зверей, почитаемых как прародители, до сегодняшней реальности, в которой сосуществуют массовые промышленные скотобойни, зоопарки, зоомагазины, салоны красоты для питомцев и глобальное сафари, животные — за исключением человека — не стали ни свободнее, ни счастливее? Что, если исторически они проиграли? Что это была за игра? На чьем поле она велась и по каким правилам?
Джон Берджер пишет, что «в течение последних двух веков животные постепенно исчезают». По мере того как они исчезают, появляются зоопарки. Берджер обращает внимание на синхронность этих процессов: «Публичные зоопарки стали появляться в начале того периода, в течение которого наблюдается исчезновение животных из повседневной жизни». Что это за период? Речь идет не о какой-то абстрактной хронологии; речь идет о модерности, или, иначе говоря, о времени капитализма: «Историческая утрата, памятниками которой служат зоопарки, сегодня непоправима для культуры капитализма». Все больше и больше животных уходит, одно за другим, оставляя человечество со своими репрезентациями, домашними питомцами и игрушками. К этим пронзительным наблюдениям Акира Мизута Липпит, автор книги «Электрическое животное», добавляет, что животные «никогда не исчезают полностью», но скорее продолжают существовать «в состоянии постоянного исчезновения». Их существование становится призрачным; «в терминах сверхъестественного, современность обнаруживает животных бродящими по миру как живые мертвецы». Исчезая с горизонта нашей повседневной жизни, призраки животных появляются в искусстве, теории, визуальной культуре.
По мере того как они исчезают, появляются зоопарки. Берджер обращает внимание на синхронность этих процессов: «Публичные зоопарки стали появляться в начале того периода, в течение которого наблюдается исчезновение животных из повседневной жизни». Что это за период? Речь идет не о какой-то абстрактной хронологии; речь идет о модерности, или, иначе говоря, о времени капитализма: «Историческая утрата, памятниками которой служат зоопарки, сегодня непоправима для культуры капитализма». Все больше и больше животных уходит, одно за другим, оставляя человечество со своими репрезентациями, домашними питомцами и игрушками. К этим пронзительным наблюдениям Акира Мизута Липпит, автор книги «Электрическое животное», добавляет, что животные «никогда не исчезают полностью», но скорее продолжают существовать «в состоянии постоянного исчезновения». Их существование становится призрачным; «в терминах сверхъестественного, современность обнаруживает животных бродящими по миру как живые мертвецы». Исчезая с горизонта нашей повседневной жизни, призраки животных появляются в искусстве, теории, визуальной культуре. Современная философия тоже не стоит в стороне: животные в ней — желанные гости. В своем намерении идти по их следам я не оригинальна. Особенность этого проекта в том, что я предлагаю читать историю философии как историю животных. Это моя, если так можно сказать, главная претензия.
Современная философия тоже не стоит в стороне: животные в ней — желанные гости. В своем намерении идти по их следам я не оригинальна. Особенность этого проекта в том, что я предлагаю читать историю философии как историю животных. Это моя, если так можно сказать, главная претензия.
Что философия говорит о животных? Кажется, что, в самом широком обобщении, в ней доминирует — или до недавнего времени доминировала — традиционная модель восходящей иерархии. Уже у Аристотеля возникает идея, что животные «лучше», чем растения, люди «лучше», чем животные, мужчины «лучше», чем женщины, а свободные граждане «лучше», чем рабы. Не потому, что тот, кто стоит на более «низкой» ступени этой иерархии, «плох», а потому, что тот, кто стоит на более «высокой», лучше знает, что лучше, что хорошо, что есть благо. Даже те, кто, очевидно, позиционирует себя на стороне животных и борется за их права и освобождение, в конечном итоге преследуя цель добиться чего-то вроде равного представительства видов в нашем все еще слишком человеческом мире, так или иначе вынуждены выстраивать свои дискурсивные стратегии исходя из идеи доминирования (на этот раз подвергаемой бескомпромиссной критике) человеческого рода над нечеловеческой природой, как если бы последняя действительно нуждалась в нашей помощи, поддержке, уважении и признании.
Животных, в свою очередь, совсем не заботит человеческая забота о них: мы приносим их в жертву, везем на бойню, едим, эксплуатируем, дрессируем, вовлекаем в современное искусство, даем им права и документы — а они остаются безразличными. Конечно, это наблюдение не вполне распространяется на домашних и других прирученных животных, чье индивидуальное выживание напрямую зависит от людей, которым они принадлежат, и заставляет их как-то отвечать на отчаянные попытки этих людей привлечь к себе внимание.
Моральную установку людей по отношению к животным можно вернуть к ее аффективному истоку, к желанию, которое предшествует любым этическим и прагматическим соображениям. Что, если обратной стороной восходящей иерархии является своего рода нисходящая ревность и зависть? Что, если мы втайне (от нас самих прежде всего) завидуем животным? Порой именно философы, при всем своем высокомерии, демонстрируют трогательную зависть по отношению к животным, которые якобы наслаждаются, но совершенно этого не осознают. Как пишет Жорж Батай,
Как пишет Жорж Батай,
человек, вопреки кажимостям, должен знать, что, говоря о человеческом достоинстве в присутствии животных, он врет как собака. Ибо в присутствии беззаконных и в высшей степени свободных существ (тех, кто по-настоящему вне закона) тупое чувство практического превосходства отступает перед самой тяжелой завистью.
Репрезентация животности — одна из важнейших тем современных теоретических дискуссий. По следам картезианского приговора — мыслю, следовательно, существую — философия обращается к вопросу о том, как мыслит живое существо, которое само, как предполагается, не мыслит. В этой области, можно сказать, уже даже есть нечто вроде консенсуса, в соответствии с которым нашему пониманию недоступна животность как таковая, но только ее конструкции. Более того, в каком-то смысле можно сказать, что в этом дискурсивном горизонте «животного не существует», поскольку в конечном счете мы имеем дело только с репрезентациями. Животное не дано, но лишь представлено, то есть оно фигурирует или как представление, или как представитель. В качестве представления животное соответствует «внешней» идее о том, что оно объект (например, в искусстве, науке, массовой культуре), а в роли представителя обнаруживает некое «внутреннее» содержание, желание, интерес — то есть заявляет о себе как воля или как субъект (например, в движении за права животных или animal studies, критически позиционирующих себя по отношению к гуманитарным наукам).
В качестве представления животное соответствует «внешней» идее о том, что оно объект (например, в искусстве, науке, массовой культуре), а в роли представителя обнаруживает некое «внутреннее» содержание, желание, интерес — то есть заявляет о себе как воля или как субъект (например, в движении за права животных или animal studies, критически позиционирующих себя по отношению к гуманитарным наукам).
Животное — это внутренняя истина безумия, обнажающая границы человеческого
Если говорить о культурной традиции прошлого, то в ней животные играли довольно активную роль, не только репрезентируя определенные человеческие пороки и добродетели, но и выступая в качестве представителей власти или посредников богов. Инцитат, любимый конь Калигулы, стал не только гражданином Рима, но и сенатором и, более того, кандидатом на пост консула: эта анекдотическая фигура замечательно воплощает идею исполнительной власти как таковой. Из более современных практик в психоанализе, к примеру, животные выступают в роли своего рода агентов, связанных с законом и символическим порядком, семейной структурой, сексуальностью (так, волки на ореховом дереве символизируют отца на матери, как в известном фрейдовском случае Человека-волка). Репрезентация — это такая неизбежная рамка, в которой наш доступ к животным ограничивается символическим опосредованием. Но, в свою очередь, именно это символическое опосредование делает возможной саму идею реального животного, которое не репрезентировано и не репрезентирует, но открывает для нас некую непосредственную данность реального человеческого существа, пусть и задним числом. Двусмысленность фигуры животного, которое есть прежде всего представление, но вместе с тем, в качестве реального, непредставимо, создает высокое напряжение в точке пересечения политики, онтологии и психоанализа. Любопытно проследить, каким образом животное производится из человеческого и наоборот в этом очень нестабильном силовом поле.
Репрезентация — это такая неизбежная рамка, в которой наш доступ к животным ограничивается символическим опосредованием. Но, в свою очередь, именно это символическое опосредование делает возможной саму идею реального животного, которое не репрезентировано и не репрезентирует, но открывает для нас некую непосредственную данность реального человеческого существа, пусть и задним числом. Двусмысленность фигуры животного, которое есть прежде всего представление, но вместе с тем, в качестве реального, непредставимо, создает высокое напряжение в точке пересечения политики, онтологии и психоанализа. Любопытно проследить, каким образом животное производится из человеческого и наоборот в этом очень нестабильном силовом поле.
Начну с двух очень коротких предварительных замечаний, касающихся словоупотребления. Прежде всего, в славянских языках «животное» происходит от слова «живот» (жизнь, тело), тогда как латинская основа для animal — anima (жизнь, душа). Этимологически животная жизнь является, таким образом, своего рода местом встречи и примирения души и тела, между которыми в рамках христианской культуры существует противоречие, влияние которого на весь наш символический мир порождает целый ряд как мелких, так и серьезных недоразумений. Животная жизнь, частным случаем которой является жизнь человеческая, — это такое единство, в котором душа и тело суть одно и то же (почти как гегелевское бытие и ничто, единство которых образует становление, процесс).
Животная жизнь, частным случаем которой является жизнь человеческая, — это такое единство, в котором душа и тело суть одно и то же (почти как гегелевское бытие и ничто, единство которых образует становление, процесс).
Далее, на уровне морфологии и синтаксиса одна, казалось бы, простая бинарная оппозиция разбивается на две — животное / человек как подлежащие и животное / человеческое как определения. Прилагательное «человеческий» происходит от существительного «человек», то есть «человек», уже обладая некой субстанциальностью, наделяет своим качеством другие предметы или явления (человеческий разум, человеческий взгляд и т.д.). «Животное» же, в отличие от «человека» и «человеческого», является одновременно и существительным, и прилагательным. Существительное «животное», указывающее на живое существо, возникает в результате субстантивации прилагательного, которое служит определением для чего-то: так, говорят о животном начале, животной природе, животном инстинкте. Если человек, можно сказать, предшествует своему определению, то животное, как бы лишенное собственной субстанции, которую выражало бы отдельное существительное, определяет само себя, рождается из своего качества, из некой определенности.
Философы всегда проводили различие между людьми и животными, применяя в качестве его критериев такие характеристики, как мышление, язык, осознание смерти и т.д. Можно выделить два типа классического философского подхода к животному. Дискурс исключения, или, если использовать определение Жан-Мари Шеффера, человеческой исключительности, исходит из идеи этического и онтологического превосходства человека, который радикально выделен из животного мира: человек исключителен, а животное — исключено, и ему, в свою очередь, нет места в мире людей. Дискурс включения опирается на идею некой общности всех видов, допускающей возможность коммуникации и взаимодействия. В этой перспективе, открытой для разного уровня эмпатии, человек представляется, конечно, одним из животных, но и у других животных обязательно обнаруживается что-нибудь «человеческое» (своего рода мышление, своего рода язык, своего рода осознание смерти и т.д.). Однако оба дискурса связаны друг с другом как две стороны одной медали — этой медалью человек сам награждает себя за то, что устанавливает и поддерживает определенный порядок вещей. Как подчеркивал Батай, в основе этого порядка лежит трансцендентность «человеческого», которая требует жертвоприношения несводимой «животной» природы. Космический порядок, государственный порядок, мировой порядок и, в конце концов, символический порядок — все они важны для нашей альтернативной истории, в которой задействованы животные.
Как подчеркивал Батай, в основе этого порядка лежит трансцендентность «человеческого», которая требует жертвоприношения несводимой «животной» природы. Космический порядок, государственный порядок, мировой порядок и, в конце концов, символический порядок — все они важны для нашей альтернативной истории, в которой задействованы животные.
Человеческое существо узнает себя в животном как в зеркале и на этой как бы стадии зеркала начинает обретать свою «человечность»
Мишель Фуко писал, что животное — это внутренняя истина безумия, обнажающая границы человеческого, и что «для эпохи классицизма безумие в крайних своих формах — это человек в непосредственной связи с собственной животностью, безотносительно к чему-либо иному, постороннему». В животном субъективность находит свой негатив, как бы зеркального двойника, немыслящего и немыслимого. По мысли Жака Лакана, глядя в зеркало, человек присваивает себе собственный образ извне. Но что, если тот двойник в зазеркалье, в котором он узнает или не узнает себя, является животным? Критически перечитывая Лакана, Жак Деррида замечает, что настоящая загадка — это не человек, уставившийся на свое зеркальное отражение, а животное, которое смотрит на него с другой стороны.
Джорджо Агамбен называет эту игру внутреннего и внешнего, включения и исключения антропологической машиной — машиной, устанавливающей границу между человеком и «животным» другим. К антропологической машине, опять же, вполне применима лакановская метафора: человеческое существо узнает себя в животном как в зеркале и на этой как бы стадии зеркала начинает обретать свою «человечность».
Совершенно в духе времени антропогенная (или — мы можем позаимствовать выражение у Фурио Джези — антропологическая) машина является машиной оптической и состоит из ряда зеркал, в которых человек рассматривает свой образ, уже искаженный в обезьянью морду. Homo — это в основе своей «антропоморфное» животное : чтобы быть человечным, человек должен познавать себя как не-человека .
Добавим, что этот оптический механизм, отвечающий в культуре за производство и воспроизводство человеческого, является двойным, поскольку узнавание здесь сопровождается неузнаванием. Человек должен был сначала узнать себя в животном, чтобы затем не узнать животное в самом себе: вслед за узнаванием хрупкое единство антропоморфного мира распадается, и зеркало встает между человеком и его бессловесным двойником. По мысли Агамбена, это не только метафизическая, но и политическая операция, исторически меняющаяся конфигурация производства человеческого и нечеловеческого через включение и исключение, производства границы:
По мысли Агамбена, это не только метафизическая, но и политическая операция, исторически меняющаяся конфигурация производства человеческого и нечеловеческого через включение и исключение, производства границы:
Антропологическая машина древних функционирует абсолютно симметрично Если машина эпохи модерна производит внешнее посредством исключения внутреннего, то здесь внутреннее производится посредством включения внешнего, не человек — посредством гуманизации животного: человекообезьяны, enfant sauvage’a или Homo ferus’a, но также и — прежде всего — раба, варвара, чужака как фигур животного в человеческой форме В связи с этой крайней формой человеческого и нечеловеческого речь идет не столько о вопросе, какая из двух машин (или из двух вариантов одной и той же машины) является лучшей, или более эффективной, или, скорее, менее кровавой и смертоносной, сколько о том, чтобы понять способ ее функционирования и при необходимости остановить ее.
В отличие от Агамбена, я не претендую на то, чтобы остановить антропологическую машину, или машину метафизики, которая питается энергией спрятанного внутри нее животного — подобно лошадиным силам в автомобиле. Мне бы скорее хотелось понять и исследовать, может ли этот механизм работать по-другому.
Мне бы скорее хотелось понять и исследовать, может ли этот механизм работать по-другому.
Исследуя некоторые фигуры, репрессированные в западной философской традиции, особенно животных, невольно сталкиваешься с характерным стилем или стратегией, используемой современными критиками: обвинять мыслителей прошлого в плохом отношении к животным (или в недооценке животных, в теоретическом или практическом неуважении к ним — как лишенным разума, языка, свободы и т.д.). Подобного рода проекция является на самом деле необходимой частью Эдипова сценария отношений с отцами философии, и такая тема, как животность, открывает для нее самый широкий простор. Разумеется, философы прошлого, укорененные в метафизике, теологии, рационализме или гуманизме, повсеместно использовали антропоцентричные, специецистские, сексистские, расистские или европоцентричные подходы, так что любая критика или деконструкция их мысли, как правило, имеет своим результатом однозначный приговор.
Очевидно, для постгуманистической теории «врагами» оказываются такие авторы, как Декарт, Кант, Гегель, Хайдеггер или Левинас. Под подозрение, однако, попадает даже Делёз, который, казалось бы, одним из первых предпринял серьезную попытку избавиться от антропоцентризма и рассуждал о становлении животным, или Деррида — философ животности par excellence, посвятивший этой теме свои последние работы, критиковавший не только Хайдеггера, но и Лакана за антропо-фаллологоцентризм и теоретически поставивший вопрос о животном в рамках деконструкции метафизики субъекта. Современные авторы буквально соревнуются в разоблачении и обличении своих предшественников в «дурном обращении» с животными. Мы, как говорил Ленин, пойдем другим путем. А именно попытаемся воздержаться от обвинительной риторики и не участвовать в судилище — не для того, чтобы оправдать философов перед царством животных, но для того, чтобы в их принципиальной амбивалентности попытаться разглядеть какой-то иной потенциал.
Под подозрение, однако, попадает даже Делёз, который, казалось бы, одним из первых предпринял серьезную попытку избавиться от антропоцентризма и рассуждал о становлении животным, или Деррида — философ животности par excellence, посвятивший этой теме свои последние работы, критиковавший не только Хайдеггера, но и Лакана за антропо-фаллологоцентризм и теоретически поставивший вопрос о животном в рамках деконструкции метафизики субъекта. Современные авторы буквально соревнуются в разоблачении и обличении своих предшественников в «дурном обращении» с животными. Мы, как говорил Ленин, пойдем другим путем. А именно попытаемся воздержаться от обвинительной риторики и не участвовать в судилище — не для того, чтобы оправдать философов перед царством животных, но для того, чтобы в их принципиальной амбивалентности попытаться разглядеть какой-то иной потенциал.
Это не философский бестиарий: я не касаюсь вопроса животного символизма, но сосредотачиваюсь скорее на «наивном», буквальном, прямом или симптоматическом прочтении метафизической традиции, соблюдая ее правила игры, даже если они всегда уже являются устаревшими, не претендуя на то, чтобы разоблачить за этой игрой какую-то реальность. Нарративная структура этого изложения складывается без оглядки на то, что можно было бы назвать «критическим реализмом», — позицию, необходимо конституированную через отсылку к текущему положению дел. В моей «Истории животных» люди, вещи, души, космос, отчуждение, коммунизм и т.д. — это персонажи, у каждого из которых своя роль в никем не написанном метафизическом сценарии.
Нарративная структура этого изложения складывается без оглядки на то, что можно было бы назвать «критическим реализмом», — позицию, необходимо конституированную через отсылку к текущему положению дел. В моей «Истории животных» люди, вещи, души, космос, отчуждение, коммунизм и т.д. — это персонажи, у каждого из которых своя роль в никем не написанном метафизическом сценарии.
Thinking Plant Animal Human — University of Minnesota Press
2020
• Автор:Дэвид Вуд
Сборник эссе ведущего философа, рассматривающего вопрос о животных в более широком контексте реляционной онтологии
Дэвид Вуд был одним из основателей группы начала 1970-е Оксфордская группа философов, выступающих за права животных; он также руководил Ecology Action (Великобритания). Thinking Plant Animal Human — это первая коллекция влиятельных эссе этого крупного философа о «животных», в которой собраны его многочисленные рассуждения о нечеловеческой жизни, в том числе классическое «Размышление с кошками».
Будьте готовы к дезориентации. Книга Дэвида Вуда « Думающее Растение-Животное-Человек » не дает ответов. Он предлагает ресурсы для трансформации, для того, чтобы представить себе иначе, когда мы ищем, как жить в опасные времена. Во времена экологических кризисов и растущего осознания глубоких взаимосвязей всех живых существ громкий призыв Вуда к тому, что он называет изменением вида, заставит всех нас не просто думать, но и заново пережить растительно-животного человека. Задействуйте сверхъестественное — прочитайте эту книгу.
Нэнси Туана, соавтор книги Beyond Philosophy: Nietzsche, Foucault, Anzaldúa
В наших представлениях о животных и вообще о жизни, особенно на Западе, происходит революция. Сами слова человек , животное и жизнь превратились в зыбкую концептуальную шелуху — помехи для осмысления проблем, с которыми они связаны. Дэвид Вуд был одним из основателей Оксфордской группы философов начала 1970-х годов, отстаивающих права животных; он также руководил Ecology Action (Великобритания).

28,00 долл. США, бумага ISBN 978-1-5179-0722-8
112,00 долл. США, ткань ISBN 978-1-5179-0721-1
272 страницы, 18 ч/б фотографий, 5 1/2 x 8 1/2, июнь 2020 г.
Серия: Постгуманитарные науки
Дэвид Вуд — профессор философии У. Элтона Джонса в Университете Вандербильта, где он преподает континентальную и экологическую философию. Его многочисленные книги включают Deep Time, Dark Times: On Geologically Human ; Повторное занятие Земли: Заметки о другом начале ; и Eco-Deconstruction: Derrida and Environmental Philosophy , соредактором которого он был. Он является директором Yellow Bird Artscape в Теннесси.
Будьте готовы к дезориентации. Книга Дэвида Вуда « Думающее Растение-Животное-Человек » не дает ответов. Он предлагает ресурсы для трансформации, для того, чтобы представить себе иначе, когда мы ищем, как жить в опасные времена. Во времена экологических кризисов и растущего осознания глубоких взаимосвязей всех живых существ громкий призыв Вуда к тому, что он называет изменением вида, заставит всех нас не просто думать, но и заново пережить растительно-животного человека. Задействуйте сверхъестественное — прочитайте эту книгу.
Он предлагает ресурсы для трансформации, для того, чтобы представить себе иначе, когда мы ищем, как жить в опасные времена. Во времена экологических кризисов и растущего осознания глубоких взаимосвязей всех живых существ громкий призыв Вуда к тому, что он называет изменением вида, заставит всех нас не просто думать, но и заново пережить растительно-животного человека. Задействуйте сверхъестественное — прочитайте эту книгу.
Нэнси Туана, соавтор книги Beyond Philosophy: Nietzsche, Foucault, Anzaldúa
Как обычно, Дэвид Вуд написал книгу, которую мы не читаем, а читаем на свой страх и риск. Большинство поколений видят конец света прямо за горизонтом, но для нас это может оказаться экологически верным. Голос Вуда, говорящий о кошках, козлах, песчаных крабах и деревьях, всегда был образцовым в своей учености и поэзии. С этим недавним сборником эссе планка снова поднята.
Х. Питер Стивс, автор книги Beautiful, Bright, and Blind: феноменологическая эстетика и жизнь искусства
Содержание
Предисловие Благодарности Декларация взаимозависимости 1. Homo Sapi ens: The Long View 2. Приключения в фитофеноменологии 3. Деревья и истина: наша невероятная ny Arboreality 4. Спекуляции с песчаными крабами 5 На пути к территориальности: о козах и людях 6. Отсутствующее животное: нарушения зеркала на Юкатане 7. Киннибализм, каннибализм: шаг назад от тарелки 8. Существа с другой планеты 9. Думая с кошками 10. Правда о животных я : Заглушение антропологической машины 11. Правда о животных II: Noblesse Oblige и бездна 12. Давать голос другим существам 13. Токсичность и превосходство: два лица человека Примечания Индекс
Homo Sapi ens: The Long View 2. Приключения в фитофеноменологии 3. Деревья и истина: наша невероятная ny Arboreality 4. Спекуляции с песчаными крабами 5 На пути к территориальности: о козах и людях 6. Отсутствующее животное: нарушения зеркала на Юкатане 7. Киннибализм, каннибализм: шаг назад от тарелки 8. Существа с другой планеты 9. Думая с кошками 10. Правда о животных я : Заглушение антропологической машины 11. Правда о животных II: Noblesse Oblige и бездна 12. Давать голос другим существам 13. Токсичность и превосходство: два лица человека Примечания ИндексПокупка
Салфетка для библиотеки
$112,00
Мягкая обложка
28,00 $
Об электронных книгахЛучшие книги о сознании животных
Вы порекомендовали нам пять замечательных книг по животному сознанию, спасибо. Декарт когда-то охарактеризовал животных как автоматы — как биологические машины — и долгое время исследователи животных делали аналогичные предположения. Но когнитивная этология теперь предполагает, что в сознании животных происходит гораздо больше, чем мы когда-то считали. Как вы думаете, почему нам важно изучать разум животных?
Декарт когда-то охарактеризовал животных как автоматы — как биологические машины — и долгое время исследователи животных делали аналогичные предположения. Но когнитивная этология теперь предполагает, что в сознании животных происходит гораздо больше, чем мы когда-то считали. Как вы думаете, почему нам важно изучать разум животных?
Мы живем в мире, населенном тем, что я называю «другими духами»; это духи с материальными телами, которые живут и умирают и добавляют цвет, смысл и ценность во вселенную. Для меня это уже почти волшебство — что есть другие разумы, радикально отличающиеся от нашего собственного, и что мы можем установить с ними какой-то контакт.
Я нахожу изучение разума животных интересным, потому что разум животных сам по себе завораживает. В чем-то они невероятно похожи на нас, а в чем-то они просто не могут быть более разными. И преодоление этого напряжения между сходством и различием столь же увлекательно, сколь и обогащающе.
Но нам необходимо изучать разум животных еще и по этическим соображениям.
Как вы думаете, почему так сильно сопротивлялись идее животного сознания?
На этот вопрос есть культурный и политический ответ.
В культурном отношении мы выросли в культуре, где предполагается превосходство людей. Это то, что мы видим на Западе уже со времен древних греков. А это значит, что с самого раннего возраста нам внушают антропоцентрическое мировоззрение, которое очень трудно растворить. Вырваться из этого мировоззрения может быть так же сложно, как выучить другой язык или изобрести новый. Это серьезная работа, которая требует много «разучивания» — мы должны разучиться моделям мышления и привычкам действий. К счастью, я чувствую, что все больше и больше людей начинают заниматься этой работой и что антропоцентризм все чаще подвергается критике в различных социальных сферах — в философии, политике, юриспруденции, экономике, искусстве, развлечениях и так далее.
«Мы выросли в культуре, где предполагается превосходство людей»
Политическая сторона уравнения связана с тем, что мы делаем с животными ради человеческого комфорта и выгоды.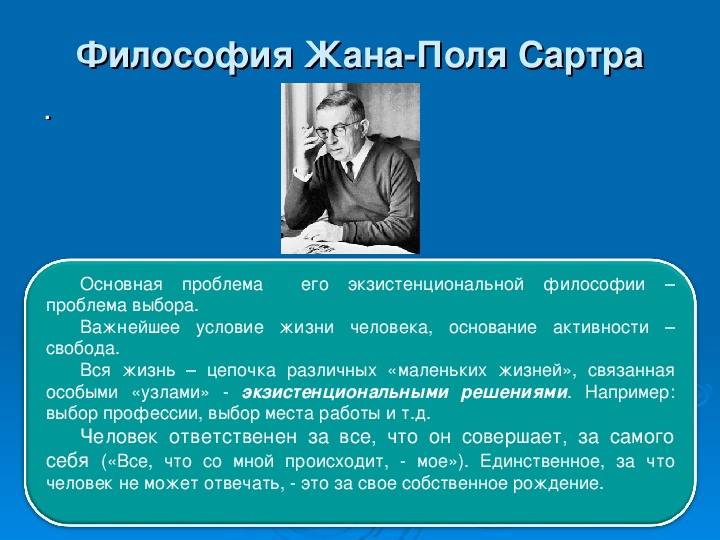 Нам приходится признать тот неприятный факт, что мы относимся к животным прежде всего как к источникам пищи и питательных веществ, что наше основное взаимодействие с ними происходит за кухонным столом. Это предполагает существование иерархии, организованной в соответствии с дисбалансом власти, когда люди обращаются с другими животными как с объектами для достижения наших собственных целей просто потому, что мы может . И один из способов, которым мы оправдываем эту иерархию, — настаивать на том, что только мы, люди, осознаем окружающий мир.
Нам приходится признать тот неприятный факт, что мы относимся к животным прежде всего как к источникам пищи и питательных веществ, что наше основное взаимодействие с ними происходит за кухонным столом. Это предполагает существование иерархии, организованной в соответствии с дисбалансом власти, когда люди обращаются с другими животными как с объектами для достижения наших собственных целей просто потому, что мы может . И один из способов, которым мы оправдываем эту иерархию, — настаивать на том, что только мы, люди, осознаем окружающий мир.
Отход от этой иерархии требует изменения институтов, в которые мы в настоящее время инвестируем, таких как научные исследования, животноводство, зоопарки и так далее. Но это также требует кардинального изменения наших представлений о животных, особенно наших представлений об их психической и эмоциональной жизни.
Интересно. Вы писали на эту тему; ваша последняя книга, When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness предполагает, что многие виды способны — и делают — запускать симуляции реальности во сне. Что это говорит об их внутренней жизни в целом?
Что это говорит об их внутренней жизни в целом?
Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы должны подумать о таком ошеломляющем феномене, как сон. Сон — это почти фантастический акт, в котором мы посредством сложного взаимодействия разума и тела создаем мир, который воспринимаем как реальный в контексте сна. Когда мы полностью оторваны от империи чувств, нам каким-то образом удается произвести аналог мира с помощью памяти и воображения. Мы строим наши сны из опыта, который хранится в долговременной и кратковременной памяти. И мы часто полагаемся на воображение, чтобы комбинировать эти переживания инновационными, причудливыми и даже нелогичными способами.
Получить еженедельный информационный бюллетень Five Books
Что это говорит о внутренней жизни животных? Ну, подумай о памяти на мгновение. Некоторые ученые утверждают, что животные не чувствуют ни прошлого, ни будущего, что они постоянно живут здесь и сейчас. Другие утверждали, что воображение ограничено Homo sapiens , потому что оно требует думать о вещах, которых на самом деле нет в окружающей среде. Например, когда я представляю, скажем, розового слона, я мысленно создаю что-то, чего на самом деле нет. Для этого требуется презентация чего-то отсутствующего или нереального. Долгое время говорили, что такого рода «преодоление» своего окружения просто невозможно для не-людей.
Например, когда я представляю, скажем, розового слона, я мысленно создаю что-то, чего на самом деле нет. Для этого требуется презентация чего-то отсутствующего или нереального. Долгое время говорили, что такого рода «преодоление» своего окружения просто невозможно для не-людей.
Но в Когда Животные Снятся я говорю о том, как память и воображение вовлечены в сновидения животных, что означает, что у животных есть память и воображение. Я также обсуждаю другие концепции, связанные со сновидениями животных, которые побуждают нас видеть животных в новом свете, особенно сознание, осознание, субъективность, потому что я действительно думаю, что через сны мы начинаем видеть животных как мыслящих, чувствующих, воплощенных субъектов, которые играют. роль в построении собственной реальности.
Как видно из вашего выбора книг, сознание животных — это область исследований, которая ставит очень серьезные научные и философские вопросы. Можем ли мы сначала обсудить рекомендацию вашей первой книги? Это «» Кристин Эндрюс «Животный разум: введение в философию познания животных».
Кристин Эндрюс — философ разума, специализирующийся на животных. В этой книге она говорит об определенных понятиях, которые мы использовали для поддержания границы между нами и другими животными. И она использует разработки в области поведения и познания животных, а также философии разума, чтобы показать, что эти концепции должны быть открыты для других видов.
Ее книга написана как учебник философии, как следует из подзаголовка. Так что это хороший ресурс для тех, у кого уже есть некоторые базовые знания о философии сознания, но кто не очень задумывался о том, как проблемы, стимулирующие эту область, меняются, если рассматривать их в отношении животных.
«Что мы, люди, думаем о разумах нелюдей?»
Книга начинается с полезного исторического обзора проблемы чужого разума. Как мы, люди, думаем об умах нелюдей? Изучив некоторые ответы, которые люди дали на этот вопрос за последние пару столетий, она обсуждает четыре основные концепции, которые необходимо переосмыслить в свете того, что мы теперь знаем о животных: сознание, мысль, общение, и интенциональность. Что мы понимаем под сознанием и у каких животных оно есть? Как общаются животные и отличается ли общение от языка? Какова природа мысли, и создают ли животные внутренние представления внешнего мира (т.е. мысли)? И, наконец, понимают ли животные намерения других, или даже , что у других есть свои собственные намерения?
Что мы понимаем под сознанием и у каких животных оно есть? Как общаются животные и отличается ли общение от языка? Какова природа мысли, и создают ли животные внутренние представления внешнего мира (т.е. мысли)? И, наконец, понимают ли животные намерения других, или даже , что у других есть свои собственные намерения?
Книга дает читателям исчерпывающий обзор текущих дебатов в области философии познания животных, которые раздвигают границы, которые мы построили, чтобы отделить себя от наших нечеловеческих кузенов.
Совершенно верно, и в этом я думаю, что она имеет некоторые общие черты со второй книгой, которую вы выбрали для рекомендации по предмету сознания животных: бельгийского философа Винчиан Депре Что сказали бы животные, если бы мы задавали правильные вопросы? Эта книга разделена на 26 разделов в алфавитном порядке.
В вопросах познания животных есть некоторое совпадение, но книга Депре шире по охвату и менее прямолинейна в своей организации. Как вы заметили, эта работа организована как одна из тех абеседариев, которые висят на стенах классных комнат начальной школы. Таким образом, главы организованы в алфавитном порядке по понятиям («А для художников», «Б для зверей» и т. д.).
Как вы заметили, эта работа организована как одна из тех абеседариев, которые висят на стенах классных комнат начальной школы. Таким образом, главы организованы в алфавитном порядке по понятиям («А для художников», «Б для зверей» и т. д.).
Это означает, что читатель может выбирать, какие главы читать и в каком порядке их читать, что дает ему четкое чувство свободы и игривости. В книге даже есть маленькие значки, разбросанные по всему тексту — указывающая рука, — которые указывают читателям на другие записи в ключевые моменты. Таким образом, если одна запись относится к чему-то, что находится в десяти главах от нее, можно перейти к этой главе, прочитать ее и вернуться к исходной главе. Внутри много перекрестных ссылок. Стилистически довольно интересно.
Звучит весело. Что-то вроде книги о приключениях по принципу «выбери свое приключение». Или « A History of Bombin g» Свена Линдквиста, который прыгает точно так же, как .
Да. Это также напоминает мне стилистически эссе Монтеня и афоризмы Рошфуко, которые короче типичного трактата и обычно нелинейны в своей организации.
Так или иначе, в книге Депре каждая глава — это размышление на определенную тему. И темы самые разнообразные: животные и искусство, животные и эмпатия, животные и политика, животные и секс, животные и исследования. И все они очень короткие — всего около 5-10 страниц каждая.
Просто чтобы дать вам один пример этого, у нее есть глава под названием «Q для гомосексуалов: пингвины выходят из туалета?», которая занимает менее 10 страниц. В нем она рассказывает о том, как либералы и консерваторы одинаково используют животных в качестве образцов морали — часто для совершенно разных целей. Защитники однополых браков будут говорить и говорить о так называемых однополых животных в дикой природе, в то время как противники найдут животных, которые образуют «гетеросексуальные» пары на всю жизнь в попытке натурализовать классический брак. Депре не занимает никакой позиции по поводу брака. Скорее, она делает шаг назад от полемики, чтобы поставить под сомнение саму идею о том, что мы можем извлечь из природы оправдание человеческих моральных или политических режимов.
Итак, как видите, объем книги огромен, но есть две важные темы, которые меня заинтриговали. Она рассматривает животных как создателей смысла — ее интересуют истории, анекдоты, протоколы, которые показывают, как животные создают смыслы для себя и окружающих. У нее есть глава о приматах, использующих узлы для изготовления гамаков в лабораториях и в заповедниках, глава о слонах, занимающихся искусством в Юго-Восточной Азии, и глава о животных-компаньонах и их связях с людьми, с которыми они делят свою жизнь. Когда вы читаете, вы начинаете видеть животных не только как эти пассивные объекты, получающие человеческую силу или человеческое господство, но и как активных агентов, которые также делают выбор и могут внести свой вклад в социальное взаимодействие.
Поддержка Five Books
Производство интервью Five Books обходится дорого. Если вам понравилось это интервью, пожалуйста, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.
Вторая тема — политика лаборатории. Для Депре лаборатории — это «диспозитивы» (термин, который она позаимствовала у Мишеля Фуко). Это человеческие творения, которые обязательно производят искусственные эффекты. Один из этих эффектов заключается в том, что они натурализуют вещи, которые на самом деле созданы обществом. Мы считаем, что поведение, демонстрируемое в лаборатории, относится к естественному поведенческому репертуару вида, тогда как часто оно может быть неестественным следствием искусственных условий жизни.
Это человеческие творения, которые обязательно производят искусственные эффекты. Один из этих эффектов заключается в том, что они натурализуют вещи, которые на самом деле созданы обществом. Мы считаем, что поведение, демонстрируемое в лаборатории, относится к естественному поведенческому репертуару вида, тогда как часто оно может быть неестественным следствием искусственных условий жизни.
У нее очень интересный анализ детоубийства крыс. Крысы убьют своих детей, когда их будет мало. Нам говорят, что это врожденная поведенческая тенденция. Но если это так, то почему детоубийство никогда не наблюдается среди крыс в их естественной среде обитания? Только в лаборатории они регулярно поедают своих детенышей. С чего бы это? Депре утверждает, что это связано с искусственным созданием дефицита и конкуренции между крысами, которые люди производят, чтобы мотивировать крыс участвовать в экспериментах. Лаборатория — не место открытий ; это место творения.
О боже.
И есть много глав, которые выдвигают на передний план то, как поведение животных деформируется и изменяет природу в лаборатории. Я думаю, для Винчианы Депре вывод состоит в том, что мы должны стремиться изучать животных в нелабораторных условиях или, по крайней мере, мы должны лучше осознавать, как образ, который мы получаем о животных в этих жестких, строгих, искусственных пространствах, является своего рода миража.
Я думаю, для Винчианы Депре вывод состоит в том, что мы должны стремиться изучать животных в нелабораторных условиях или, по крайней мере, мы должны лучше осознавать, как образ, который мы получаем о животных в этих жестких, строгих, искусственных пространствах, является своего рода миража.
Правильно. Это довольно ужасающий пример, но в целом эта книга пронизана неким чувством игривости. Как правило, эта тема поддается комизму или абсурду. В частности, я думаю о нашей следующей книге, «9» Эда Йонга.0015 Огромный мир , в котором много очень глупо звучащих экспериментов, с тюленями в очках, рыбами в куртках и так далее. Вы думаете, что фарсовые качества исследований на животных отвлекают от серьезности предмета? Может, я убийца.
Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы быть убийцей. Но истина — это сочетание двух — фарсового и серьезного. Потому что, когда мы думаем о взаимодействии человека с животными, оно часто варьируется от комического до трагического. В лабораториях, например, наблюдается явный дисбаланс сил — это трагическое измерение. Но это не значит, что мы видим полное уничтожение свободы воли других животных. Я думаю, что животные достаточно изобретательны, чтобы найти способы выйти из-под контроля человека в определенных случаях, даже если только на мгновение. И это моменты полукомического облегчения. Подумайте обо всех сообщениях о животных, убегающих из лаборатории или зоопарка, в то время как люди лихорадочно их ищут. В этих побегах есть что-то комическое, но комическое качество, которое проявляется в более широком трагическом контексте: трагедии плена. Но да, есть тяжелый элемент, и есть моменты легкомыслия, и я думаю, что каждый эксперт по животным — будь то ученые-исследователи, философы или антропологи — знаком с этой двойственностью.
Но это не значит, что мы видим полное уничтожение свободы воли других животных. Я думаю, что животные достаточно изобретательны, чтобы найти способы выйти из-под контроля человека в определенных случаях, даже если только на мгновение. И это моменты полукомического облегчения. Подумайте обо всех сообщениях о животных, убегающих из лаборатории или зоопарка, в то время как люди лихорадочно их ищут. В этих побегах есть что-то комическое, но комическое качество, которое проявляется в более широком трагическом контексте: трагедии плена. Но да, есть тяжелый элемент, и есть моменты легкомыслия, и я думаю, что каждый эксперт по животным — будь то ученые-исследователи, философы или антропологи — знаком с этой двойственностью.
Да. Это наводит меня на мысли об очень забавных описаниях в книге Питера Годфри Смита Other Minds , где он пишет об осьминогах, вылезающих из своих аквариумов, а затем быстро возвращающихся обратно, когда исследователь возвращается в комнату. Но, возможно, нам следует больше поговорить о книге Йонга. Он журналист, лауреат Пулитцеровской премии, издательство The Atlantic , и подзаголовок этой книги — «Как органы чувств животных раскрывают скрытые миры вокруг нас». Это восхитительно.
Он журналист, лауреат Пулитцеровской премии, издательство The Atlantic , и подзаголовок этой книги — «Как органы чувств животных раскрывают скрытые миры вокруг нас». Это восхитительно.
Эд Йонг — прекрасный писатель. Он дал нам очень эрудированную и увлекательную книгу. В нем так много информации о сенсорных системах других видов и радикальном разнообразии способов бытия, существующих в природе.
Эта книга в конечном счете посвящена чувствам. Долгое время мы думали, что есть только пять чувств — в основном потому, что мы универсализируем очень узкий срез мира, то есть срез человеческого опыта. Таким образом, мы приравниваем пять доминирующих человеческих чувств к «чувствам» в более общем смысле. Но, конечно же, есть много других чувств помимо этих пяти, а также чувства, которые есть только у других видов и для которых у нас нет человеческой версии.
Эд Йонг хочет, чтобы мы обращали внимание на эти другие чувства. Вот почему воображение для него является таким важным методологическим принципом. Именно через воображение мы получаем доступ к центральному философскому понятию, которое он использует в книге, а именно к понятию «Umwelt», немецкому термину, который просто означает «живой мир», мир, как он переживается конкретным организмом. .
Именно через воображение мы получаем доступ к центральному философскому понятию, которое он использует в книге, а именно к понятию «Umwelt», немецкому термину, который просто означает «живой мир», мир, как он переживается конкретным организмом. .
Он исходит от биолога Якоба фон Икскюлля, который описывает мир конкретного животного как цепь между «системой рецепторов» животного (все, что животное может ощущать и регистрировать из внешнего мира — видят ли они? они обоняют Есть ли у них сонар?) и «эффекторная система» (все, что животное может делать с этой информацией — могут ли они летать? Могут ли они обнаружить хищника? Могут ли они построить гнездо?). Эти две системы создают пузырь, который является живым миром животного.
«Долгое время мы думали, что есть только пять чувств — в основном потому, что мы универсализируем очень узкий кусочек мира»
Эд Йонг приводит два действительно интересных аргумента, которые уже есть в Икскюле, но я думаю, Юн объясняет их ясно. Во-первых, умвельт каждого животного уникален, основан на принадлежности к виду и, возможно, даже варьируется от животного к животному. Во-вторых, животные не могут выйти из своего Umwelt. Мы не можем перестать видеть мир через человеческую линзу, так же как волк не может выйти за пределы своего собачьего восприятия мира.
Во-первых, умвельт каждого животного уникален, основан на принадлежности к виду и, возможно, даже варьируется от животного к животному. Во-вторых, животные не могут выйти из своего Umwelt. Мы не можем перестать видеть мир через человеческую линзу, так же как волк не может выйти за пределы своего собачьего восприятия мира.
Но как же тогда мы, люди, можем думать о мирах других животных, если не можем выйти за пределы своего собственного? Я думаю, Йонг считает, что мы можем в какой-то степени войти в пузырь другого животного . По крайней мере, мы можем заметить, какие другие пузыри находятся там, какие возможные формы они могут иметь, какие возможные цвета они могут отображать. Книга затрагивает элемент чуда, исследуя эти скрытые области, которые, возможно, вовсе не скрыты. Они могут быть рядом с нами.
Мне очень нравится эта книга. Давайте поговорим о книге Марка Бекоффа «Эмоциональная жизнь животных: ведущий ученый исследует радость, печаль и сочувствие животных, а также почему они имеют значение». Он основан на многолетнем опыте Бекоффа, изучающего социальную коммуникацию у самых разных видов. Почему вы рекомендуете эту книгу и что она говорит нам о сознании животных?
Он основан на многолетнем опыте Бекоффа, изучающего социальную коммуникацию у самых разных видов. Почему вы рекомендуете эту книгу и что она говорит нам о сознании животных?
Отчасти потому, что это очень доступно, но отчасти потому, что Бекофф хорошо выделяет аспекты эмоций, которые мы часто упускаем из виду. Например, он начинает свою книгу с рассказа о том факте, что мы склонны думать об эмоциях как о вещах, которые происходят 9.0015 внутри нас, знаете ли, может быть в голове, может быть в сердце, может быть в кишечнике, в зависимости от того, где вы их локализуете. Но он говорит, что это совершенно неправильный способ думать об эмоциях. Эмоции не являются частными, внутренними делами; во всяком случае, это болезненно публичные мероприятия. Когда я испытываю эмоцию, я не могу не улыбаться, не могу не хмуриться, не могу не съеживаться. Я краснею от гнева. Или я выгляжу так, будто только что увидел привидение. Эта публичность говорит о том, что эмоции не только для нас, хотя они могут быть и о нас.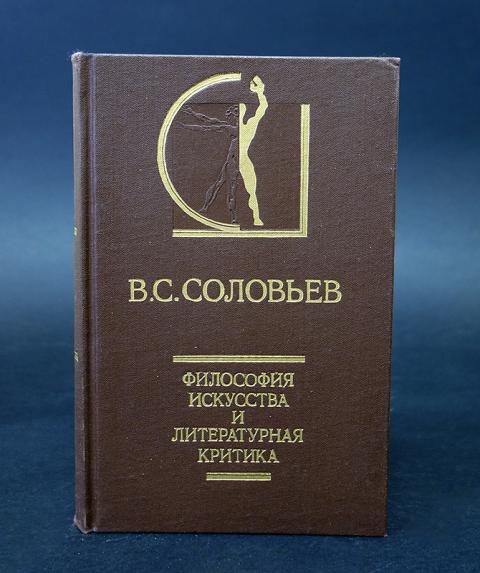 Это способы общения. Они принципиально социальные.
Это способы общения. Они принципиально социальные.
Он также объясняет, что многие эмоции сложны. Психологи часто различают «первичные» и «вторичные» эмоции. Первичные эмоции являются врожденными и запрограммированными — например, реакция бегства или борьбы. Но есть и другие эмоции, которые не могут быть продуктом жесткой фиксации. Это вторичные эмоции. Они обучены, они гибкие, они психологические. Животное размышляет о том, что делать, основываясь на эмоциях.
В этой книге Бекофф фокусируется на этих вторичных эмоциях. Он много говорит о хорошем: смехе, радости, любовной связи между животными. Он также обсуждает игру, которая занимает центральное место в его анализе. Но он уходит и в менее позитивные моменты. Например, мстят ли животные? Что ж, бывают случаи соперничества между братьями и сестрами птиц, когда животные мстят друг другу, соревнуясь за внимание родителей. Точно так же, когда гиены становятся изгоями в собственном сообществе, они пытаются отомстить тем, кто выбросил их из гогота.
Возможно, мы могли бы представить себе реального Короля Льва .
Да, возможно! И одна из эмоций, отображаемых в The Lion King , — это горе. Симба оплакивает смерть своего отца Муфасы. И тогда стая оплакивает исчезновение Симбы, который, в свою очередь, также оплакивает потерю своей родины, когда ему приходится тайно уходить. Бекофф, конечно, не говорит о фильме, но он думает, что животные скорбят о потере своих близких.
Это сложная тема, потому что горе, возможно, требует концепции смерти. Есть ли это у животных? Я считаю, что тенденция движется к утвердительному ответу. Не все животных, но определенно некоторые. Нечеловеческие приматы ужасно страдают после смерти члена семьи. Они становятся несчастными. Лисы и слоны совершают то, что мы могли бы также назвать «погребениями», когда животные приближаются к мертвому телу своего сородича, особенно друга или члена семьи, и обращаются с ним причудливым образом. Они закрывают его предметами и защищают от других. Это противоречит давней теории антропологии, которая утверждает, что у животных развилось естественное отвращение к мертвым телам по эволюционным причинам — потому что они являются переносчиками болезней — и что только люди ломают этот образец через наши культурные традиции, связанные со смертью.
Это противоречит давней теории антропологии, которая утверждает, что у животных развилось естественное отвращение к мертвым телам по эволюционным причинам — потому что они являются переносчиками болезней — и что только люди ломают этот образец через наши культурные традиции, связанные со смертью.
Но один из выводов, к которому Бекофф хочет, чтобы мы пришли в этой книге, заключается в том, что поведение животных связано не только с выживанием. Это также связь, связь и общение. Неспециалистами, а также учеными было зарегистрировано много случаев, когда животные помогали раненому сородичу, что с точки зрения выживания нелегко понять. Это также обсуждение другого социального поведения, которое вы можете понять только в свете вторичных эмоций, таких как дружба или коллективные праздники. Таким образом, книга выдвигает на первый план эмоциональную жизнь животных, которая публична и сложна.
Думаю, нам следует заняться проблемой антропоморфизма. Некоторые читатели могут с подозрением отнестись к приписыванию эмоциональных способностей животным на том основании, что мы предполагаем, что они думают так же, как и мы.
Определенно. Антропоморфизм — плохое слово в науке. Нет ничего более вероятного, что выбьет кого-то из научного сообщества, чем обвинение в антропоморфизме, то есть проецировании человеческих сил или способностей на нечеловеческих животных.
Я вижу две проблемы с нашим чрезмерным страхом перед антропоморфизмом. Во-первых, те, кто паникует по поводу антропоморфизма, часто исходят из скудного понимания других животных и завышенного представления о том месте, которое занимает человек в порядке природы. Если вы исходите из убеждения, что только у людей есть чувство прошлого и настоящего, что только у людей есть сложные эмоции, что только люди могут думать о том, чего желают другие, то даже малейшее предположение, противоречащее существу этого убеждения, поразит вас. как возмутительно антропоморфный. Но где возмутительность, в новом внушении или в исходной вере?
Во-вторых, страх перед антропоморфизмом — который иногда может представлять реальную опасность, я этого не отрицаю — может мешать научным исследованиям, не позволяя ученым увидеть существующие параллели. Это то, что мы знаем уже давно: в науках о животных всякий раз, когда появляются новые разработки или новые теории, раздвигающие границы, первым инстинктом является отбрасывание этих разработок и теорий как антропоморфных. Но часто происходит сдвиг, и якобы нелепое предложение включается в совокупность научных данных.
Это то, что мы знаем уже давно: в науках о животных всякий раз, когда появляются новые разработки или новые теории, раздвигающие границы, первым инстинктом является отбрасывание этих разработок и теорий как антропоморфных. Но часто происходит сдвиг, и якобы нелепое предложение включается в совокупность научных данных.
Поддержка Five Books
Производство интервью Five Books обходится дорого. Если вам понравилось это интервью, пожалуйста, поддержите нас, пожертвовав небольшую сумму.
Например, что произошло, когда Джейн Гудолл предположила, что у шимпанзе есть личность? Она была персоной нон грата в антропологии. Сейчас она является одним из самых уважаемых ученых в мире. То же самое произошло с Яаком Панксеппом, открывшим крысиный смех. Он был занесен в черный список научных кругов. Люди говорили, что он сбился с пути как ученый. Теперь его помнят как пионера аффективной неврологии животных. И это только два примера. Есть много других.
Итак, в этой культурной панике по поводу антропоморфизма есть концептуальные и практические проблемы. Но ничто из этого не отрицает, что нам нужно быть осторожными. Это просто означает, что от новых идей нельзя отказываться просто потому, что мы хотим верить в то, что обладаем каким-то особым качеством, которое обесценится, если распространится на другие живые существа.
Но ничто из этого не отрицает, что нам нужно быть осторожными. Это просто означает, что от новых идей нельзя отказываться просто потому, что мы хотим верить в то, что обладаем каким-то особым качеством, которое обесценится, если распространится на другие живые существа.
В этом есть смысл. И я думаю, что многие люди, работающие с животными, интуитивно понимают, что самое простое объяснение большей части поведения, с которым они сталкиваются, заключается в том, что у животных есть личности, эмоции, внутренний мир. Но я полагаю, что подкрепление этих предположений доказательствами — вот где все усложняется. Давайте перейдем к вашей последней рекомендации по книге о сознании животных, которой является эссе Джона Бергера «Зачем смотреть на животных?». Он доступен как отдельная мини-книга от Penguin. В нем есть замечательная строка, довольно ранняя:
Животное внимательно изучает его через узкую бездну непонимания. Вот почему человек может удивить животное.
И все же животное — даже если оно одомашнено — тоже может удивить человека.
Почему мы должны читать Бергера сейчас?
Бергер маловероятен для включения в этот список. Он искусствовед, культурный критик и марксист. Он прославился в 1970-х годах своим документальным сериалом BBC под названием Ways of Seeing , в котором он учил зрителей, как думать об изображениях: фотографиях, картинах, телевидении и так далее. Так что он не ученый и не эксперт по животным. Но в 1980 он написал «Зачем смотреть на животных?», в котором проследил эволюцию того, как мы воспринимаем животных как культуру. Здесь встречаются исследования животных и художественная интерпретация. Хотя я не согласен на 100% с его рассказом об эволюции наших отношений с животными, я думаю, что это увлекательный рассказ, на который стоит обратить внимание. И написано сильно.
По словам Бергера, в конце 19 века произошел сдвиг в том, как люди видели и интерпретировали нечеловеческих животных.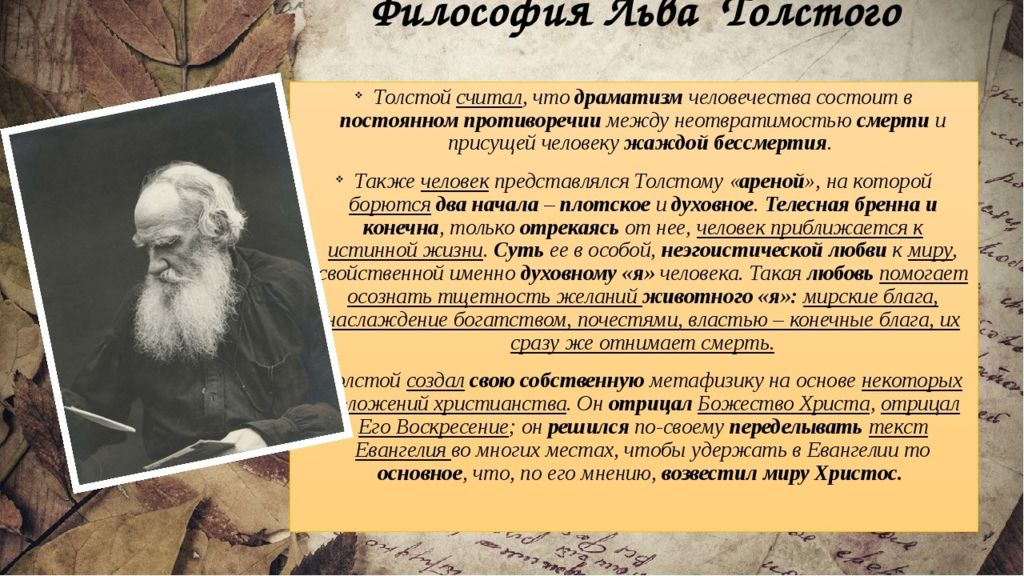 До 19ХХ века наше отношение к животным представляло собой сочетание близости и жертвы . Мы были ближе к другим животным в природе, но мы также убивали их для еды — и убийство было прямым. Мы убивали их своими руками и с помощью довольно примитивных инструментов. Мы были близки к ним — и к их смерти.
До 19ХХ века наше отношение к животным представляло собой сочетание близости и жертвы . Мы были ближе к другим животным в природе, но мы также убивали их для еды — и убийство было прямым. Мы убивали их своими руками и с помощью довольно примитивных инструментов. Мы были близки к ним — и к их смерти.
Эта смесь близости и жертвенности породила интересный вид экзистенциальных отношений: мы любили животных, мы уважали их различия и мы уважали серьезность акта их убийства. Для Бергера люди до 19век понял разделяющую нас «бездну непонимания», но также понял, что люди и животные смотрят друг на друга через эту бездну . Мы видим их, и они видят нас.
Все меняется в конце 19-начале 20 века. Промышленная революция приводит к «уменьшению животного». Постепенно, в течение нескольких десятилетий, животные начинают исчезать из нашей жизни. Лошади и ослы заменены автомобилями. Убой животных передается на фабрики и осуществляется тайно, вдали от нас. На сцену выходит Дисней, продвигая карикатурных животных, которые на самом деле являются человеческими персонажами, одетыми как животные. Зоопарки становятся все более распространенными и превращают животных в объекты человеческого взгляда.
Зоопарки становятся все более распространенными и превращают животных в объекты человеческого взгляда.
Получить еженедельный информационный бюллетень Five Books
Бергер считает, что мы видим животных, но больше не чувствуем, что они нас видят . Это улица с односторонним движением. На самом деле, мы даже не видим животных — на самом деле. Мы смотрим на них, но не видим их . Мы видим плюшевых мишек из плоти, интегрированные кусочки мяса, мультфильмы, на мгновение ускользнувшие с экрана. Мы перестали видеть в животных существа, которые оглядываются назад. Для меня эта способность «оглядываться назад» связана с тем, чтобы быть разумным, сознательным, социальным, и заинтересованы. Вот почему это эссе — хотя оно частично и посвящено искусству и визуальной культуре — в основном посвящено проблеме других умов. Вот так я это прочитал.
Это подводит нас к моему последнему вопросу: философ Томас Нагель однажды утверждал, что невозможно понять, что значит «быть» летучей мышью. Здесь, я думаю, он указывает на проблему выхода за пределы нашего собственного Умвельта, как мы обсуждали ранее. Но что мы можем получить, пытаясь понять разум летучей мыши, да и других животных?
Здесь, я думаю, он указывает на проблему выхода за пределы нашего собственного Умвельта, как мы обсуждали ранее. Но что мы можем получить, пытаясь понять разум летучей мыши, да и других животных?
Позвольте мне начать с того, что я думаю, что Нагеля до некоторой степени неправильно поняли. Он говорит, что мы никогда не узнаем, каково быть летучей мышью с точки зрения первого лица, и мне это кажется правильным. Было бы жестоко предполагать, что я могу запечатлеть мир другого животного, просто представив себя этим животным. В этом есть элемент тщеславия, самонадеянности, коренящейся в своего рода космическом тщеславии, благодаря которому мы убеждаем себя, что мы животное, которое может вместить всех других животных в пределы своего собственного разума. Так что с точки зрения знания того, что значит «быть другим животным», существует реальный предел. Более подробно я рассказываю об этом в выпуске моего подкаста Переосмыслить .
Но в этом знаменитом эссе ближе к концу Нагель говорит о возможности объективной, а не субъективной феноменологии, и оставляет для этого дверь открытой.
 И все же животное — даже если оно одомашнено — тоже может удивить человека.
И все же животное — даже если оно одомашнено — тоже может удивить человека.