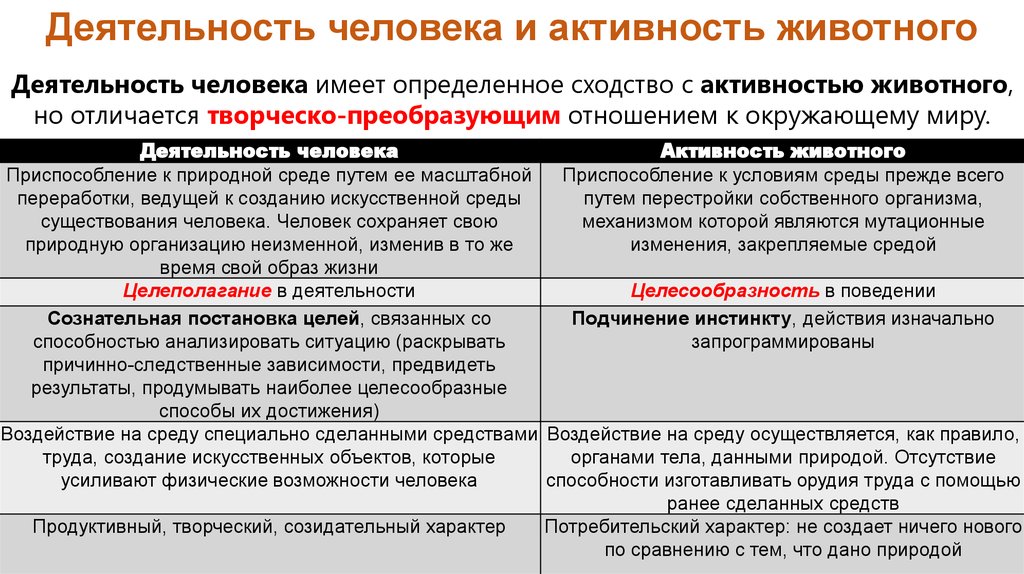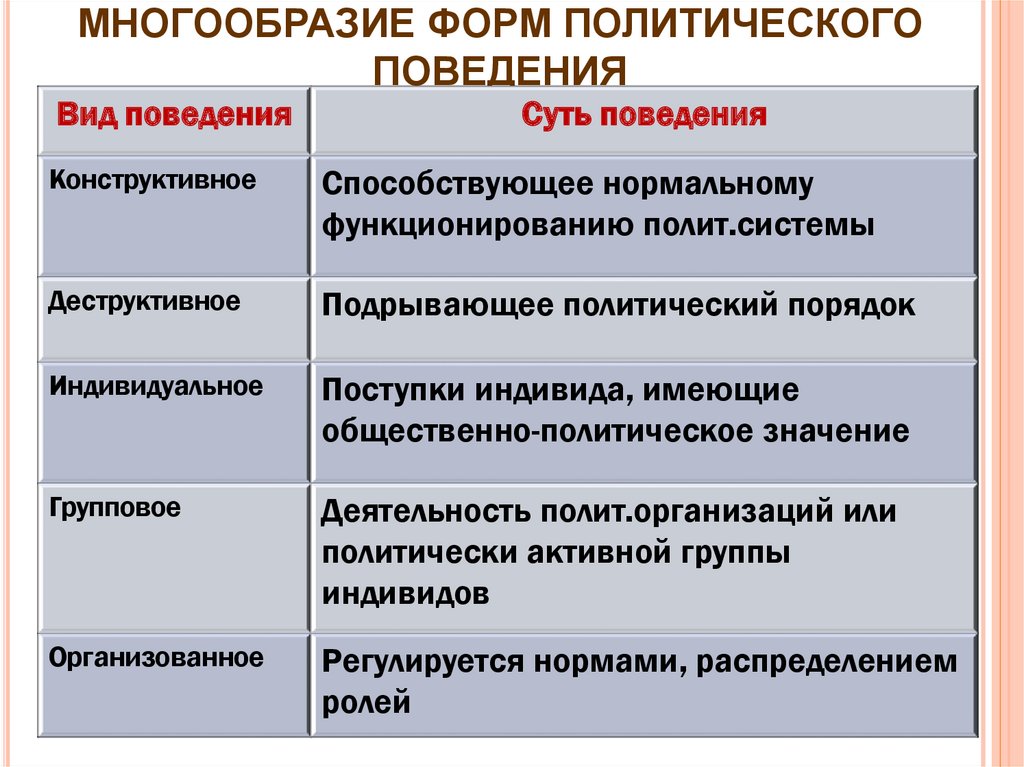Поведение человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях — Новости
Р.М. Шамионов
Заведующий кафедрой психологии и образования Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, д-р психол. наук
Поведение человека всегда проявляется в какой-либо обстановке ,ситуации. При этом сложившиеся обстоятельства по-разному влияют на человека, выступая фактором изменения его психологического состояния.
Чрезвычайная и экстремальная ситуации.
Все ситуации могут быть классифицированы разными способами: с точки зрения их значимости- незначимости, опасности-безопасности, удовлетворения-неудовлетворения, субъективности-объективности и т.п. Особый класс ситуаций представляют чрезвычайные и экстремальные ситуации. Они неизбежно содержат проблемную составляющую, к которой не имеется готового или быстро снимающего ее напряженность решения.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ФЗ от 21 декабря 1994г. № 68 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)
№ 68 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)
По характеру источников возникновения ЧС подразделяются на природные, техногенные, социальные и т.д.
В зависимости от масштабов ЧС подразделяются на локальные, муниципальные, региональные, межрегиональные и федеральные (постановление правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”)
Важными особенностями процессов возникновения и развития ЧС являются многообразие и неповторимость их проявления, динамика которых может быть условно представлена в виде ряда типовых стадий развития (предварительная, первая, вторая и третья).
На предварительной стадии возникновения ЧС образуются и нарастают предпосылки к возникновению природного и техногенного бедствия, накапливаются отклонения от нормального состояния или процесса.
На первой стадии происходит инициирование природного или техногенного бедствия и последующее развитие процесса чрезвычайного события, во время которого оказывается воздействие на людей, объекты экономики, инфраструктуры и природную среду.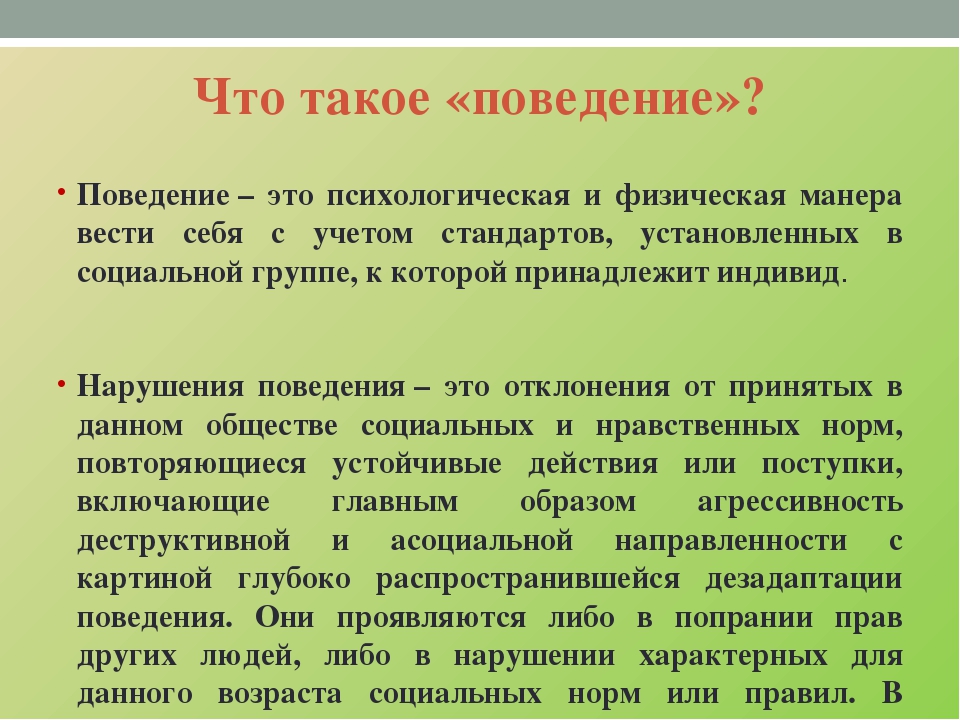
На второй стадии осуществляется ликвидация последствий природного или техногенного бедствия, ликвидация ЧС. Этот период может начинаться до завершения первой стадии. Ликвидация ЧС заканчивается, как правило, с переходом пострадавшей территории, ее хозяйственных, социальных структур и населения на повседневный режим жизнедеятельности.
На третьей стадии осуществляется ликвидация долговременных последствий природного и техногенного бедствия. Она имеет место тогда, когда последствия этих ЧС требуют для своей полной ликвидации продолжительных по времени усилий, которые являются важной составной частью социально-экономической деятельности по обеспечению стабильности и развития соответствующего региона.
Экстремальная ситуация (ЭС) – это ситуация, выходящая за рамки обычного, связанная с особо неблагоприятными или угрожающими факторами для жизнедеятельности человека.
Отличие экстремальной ситуации от чрезвычайной заключается в том, что экстремальная ситуация— это прямое взаимодействие человека со сверхсложной обстановкой, происходящее в течение короткого периода времени и приводящее человека к персональному порогу адаптированности, когда создается опасность его жизни и здоровью.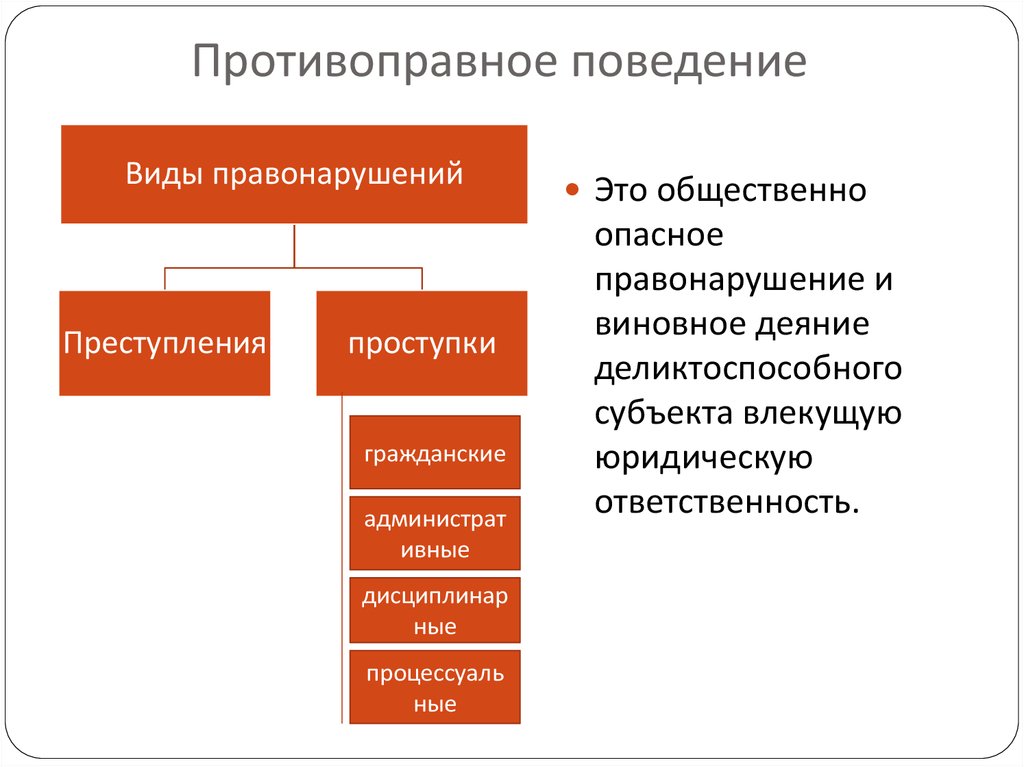 Экстремальная ситуация- не просто чрезвычайное, а именно исключительно опасное событие или совокупность опасных событий.
Экстремальная ситуация- не просто чрезвычайное, а именно исключительно опасное событие или совокупность опасных событий.
Поведение в ЭС и ЧС
Характеристики поведения
Любая угроза безопасности личности неминуемо создает эмоционально-психологический очаг напряженности, энергия которого тратится на противодействие этой угрозе, т.е. создание таких условий бытия, которые бы минимизировали ощущение потери безопасности. Главное, на наш взгляд, заключается не столько в объективных условиях жизнедеятельности, хотя само по себе это очень важно, сколько в формировании таких механизмов личностной устойчивости, которые бы позволили сохранять так называемое динамическое равновесие состояния, своего рода субъективное ощущение благополучия.
Поведение людей в чрезвычайных ситуациях (далее будет подразумеваться – и в экстремальных), как правило, делится на две категории:
1)рациональное, адаптивное с полным контролем состояния своей психики и управлением эмоциями- путь к быстрой адаптации к условиям сложившейся обстановки, сохранению спокойствия и осуществлению мер защиты, взаимопомощи.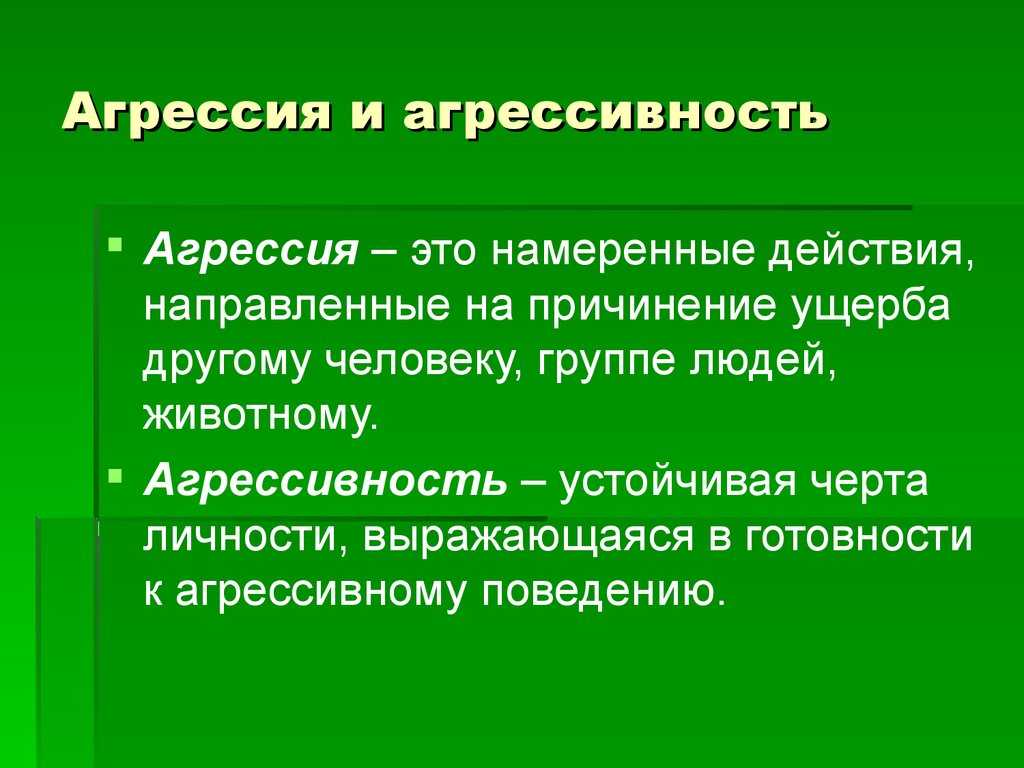 Такое поведение является следствием точного выполнения инструкций и распоряжений.
Такое поведение является следствием точного выполнения инструкций и распоряжений.
2)негативное, патологическое, при котором своим нерациональным поведением и опасным для окружающих действиями люди увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок. В этом случае может наступить “шоковая заторможенность”, когда масса людей становится растерянной и безынициативной. Частным случаем “шоковой заторможенности” является паника, нередко выливающаяся в беспорядочное бегство, при котором людьми руководит сознание, низведенное до примитивного уровня.
Г.Ю. Фоменко, профессор кафедры психологии личности и общей психологии Кубанского государственного университета, исходит из более широкого понимания пребывания человека в чрезвычайной ситуации – бытийного. Ею определены и описаны два модуса бытия личности в чрезвычайных условиях : предельный и экстремальный , связанные с различными типами личности. Показано, что лица с предельным модусом характеризуются в поведении результативными ожиданиями, психологической подготовленностью, ответственностью. А лица с экстремальным модусом- отсутствием психологической готовности, экстернальностью, неэффективностью.
А лица с экстремальным модусом- отсутствием психологической готовности, экстернальностью, неэффективностью.
Таким образом, характеристики личности являются существенным фактором поведения в ЧС.
Психические состояния
Страх
Особое значение при рассмотрении поведения личности в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах занимает страх – негативное психическое состояние, связанное с выраженным проявлением чувства тревоги, беспокойства, угрозы существованию индивида и направленное на источник действительной или воображаемой опасности.
По мнению известного психофизиолога П.В. Симонова, страх является наиболее сильным эмоциональным проявлением психики человека, развивающимся при недостатке сведений, необходимых для защиты. Именно в этом случае становится целесообразным реагирование на расширенный круг сигналов, полезность которых еще неизвестна. Такое реагирование избыточно, но зато оно предотвращает пропуск действительно важного сигнала, игнорирование которого может стоить жизни.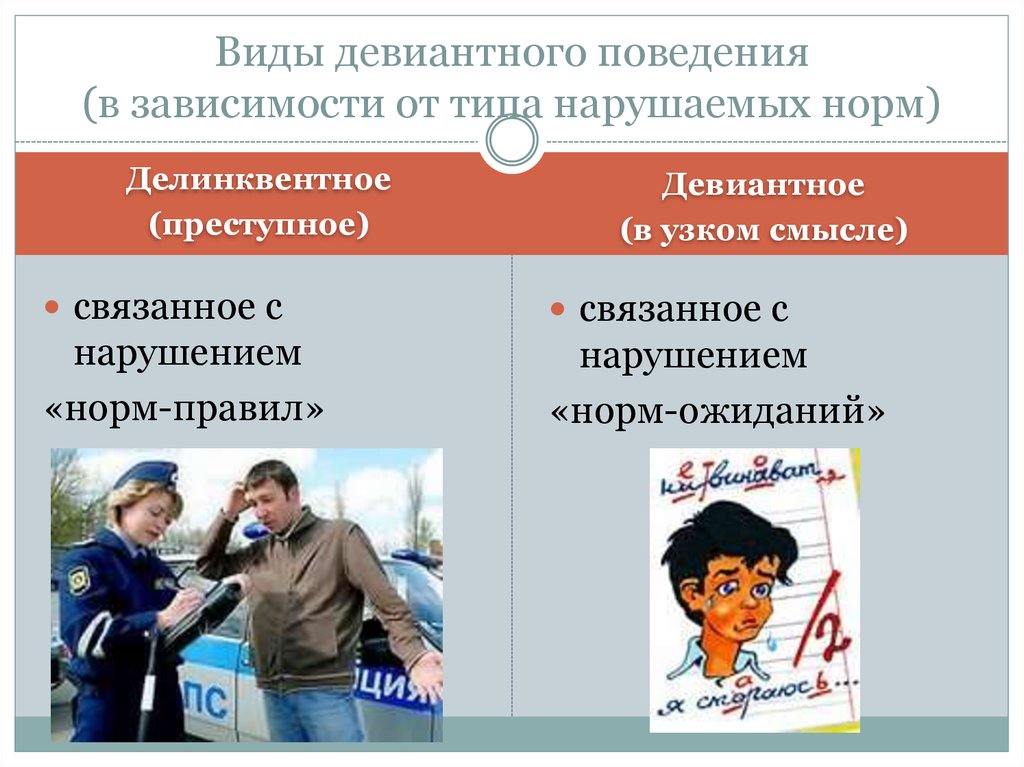
Страх проявляется и от незначительной, едва заметной тревоги до ужаса, охватывающего и дестабилизирующего личность человека с распространением на моторику. Считается, что преодолению страха способствует информированность, которая поддерживает надежду на благоприятный исход событий.
Например, на соревнованиях равных по мастерству спортивных команд чаще побеждают хозяева поля. Осведомленность об условиях соревнований, соперниках, стране и т.д. способствует тому, что в сознании спортсменов не остается места тревоге, сомнениям и страху. Основная регулятивная роль страха заключается в том, что он сигналит об опасности и соответственно вызывает вероятные защитные действия человека.
Очень часто страх, возникающий в ситуациях неожиданных и неизвестных, достигает такой силы, что человек погибает.
Известна старая притча о страхе.
“Куда ты идешь?” – спросил странник, повстречавшись с Чумой. “Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек”. Через несколько дней тот де человек снова встретил Чуму. “Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят”, — упрекнул он ее. “Нет, — возразила она, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха”
“Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят”, — упрекнул он ее. “Нет, — возразила она, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха”
Однако, как отмечают специалисты по чрезвычайным ситуациям, наиболее частыми, значительными, динамичными являются необдуманные, бессознательные действия человека как результат его реакции на опасность. Французский врач А. Бомбар пришел к выводу, что до 90% людей гибнет в море после катастрофы судна в течение первых трех дней, когда еще не может быть речи о смерти из-за отсутствия пищи и воды.
Депривация
Еще одним психологическим эффектом экстремальной, а порой чрезвычайной ситуации является эмоциональная, физическая, социальная и т.п. депривация – утрата, лишение, ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей в течение длительного времени. Она обнаруживается в условиях деятельности на Крайнем Севере(например, при обвалах, блокирующих выход). Как считает один из первых исследователей, наиболее последовательно изучавших поведение личности в экстремальных ситуациях, В.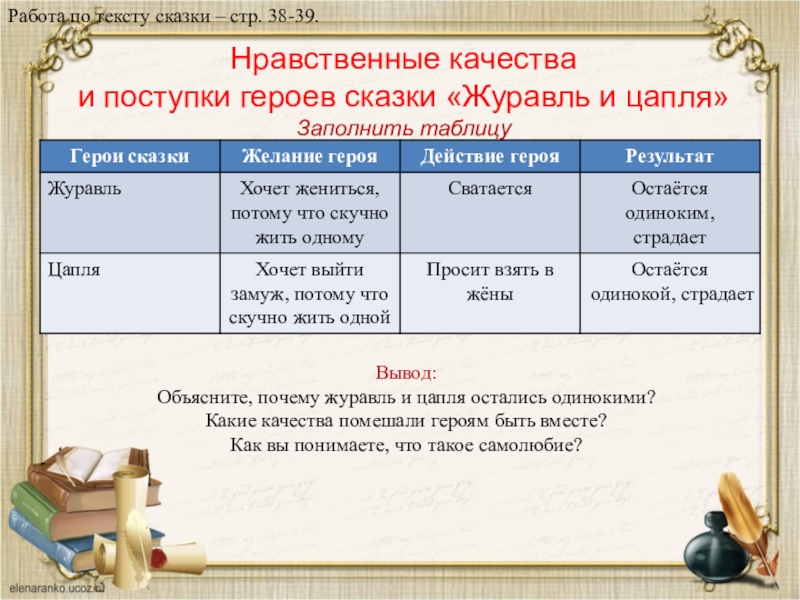 И. Лебедев, экстремальных ситуациях имеет место не только недостаток впечатлений из внешней среды, но и значительное изменение афферентации, объясняемое малым объемом помещений и динамикой летательных аппаратов и подводных лодок. Часто это приводит к развитию нервозов.
И. Лебедев, экстремальных ситуациях имеет место не только недостаток впечатлений из внешней среды, но и значительное изменение афферентации, объясняемое малым объемом помещений и динамикой летательных аппаратов и подводных лодок. Часто это приводит к развитию нервозов.
Поведенческие эффекты в ЭС и ЧС
Одной из наиболее сложных проблем в экстремальной ситуации выступает одиночество. Причем речь вовсе не идет лишь о случае отсутствия рядом других людей. Как известно, одиночество можно испытывать и в группе. Как только человек попадает в экстремальные условия существования, все непосредственные “живые” связи с близкими (а в условиях одиночества – со всеми) людьми прерываются. Такой резкий разрыв и обусловливает эмоциональную напряженность, психологический шок. В этих условиях дефицит общения приводит к различным нарушениям психики. По мнению В.И. Лебедева, личность достаточно быстро адаптируется к данной ситуации и научается справляться с одиночеством. Невозможность удовлетворения потребности в общении вызывает эмоциональную напряженность, побуждающую человека искать способы удовлетворения этой потребности. В экспериментах по длительной изоляции он наблюдал персонификацию некоторыми испытуемыми “публичности одиночества” – своеобразного состояния человека, который, находясь в одиночестве, знает, что за ним ведется непрерывное наблюдение с помощью телевизионных камер, но в то же время не знает, кто конкретно наблюдает. Нередко испытуемые начинали разговаривать с телевизионной камерой, воображая при этом, что в аппаратной находится конкретный человек. И хотя данного человека в аппаратной не было, а испытуемый не получал никаких ответов, он, тем не менее, с помощью этого разговора снимал эмоциональную напряженность.
В экспериментах по длительной изоляции он наблюдал персонификацию некоторыми испытуемыми “публичности одиночества” – своеобразного состояния человека, который, находясь в одиночестве, знает, что за ним ведется непрерывное наблюдение с помощью телевизионных камер, но в то же время не знает, кто конкретно наблюдает. Нередко испытуемые начинали разговаривать с телевизионной камерой, воображая при этом, что в аппаратной находится конкретный человек. И хотя данного человека в аппаратной не было, а испытуемый не получал никаких ответов, он, тем не менее, с помощью этого разговора снимал эмоциональную напряженность.
В условиях одиночества человек разговаривает не только с неодушевленными предметами и живыми существами, но нередко и с самим собой. В этих случаях силой воображения он создает партнера и ведет с ним диалог, задавая вопросы и отвечая на них, спорит сам с собой, доказывает что-нибудь самому себе, заставляет что-то делать, успокаивает, убеждает и т.д. Эмоционально насыщенная потребность в общении может вызвать яркие эйдетические образы партнеров .
Между тем создание своего второго Я и общение с ним является одним из известных способов способности отражать окружающую действительность и задействовать ресурсы самосохранения. Об этом писал и австрийский психиатр и невролог В. Франкл, описывая поведение человека в концентрационном лагере военнопленных. Именно способность сохранить ( хоть и собственном воображении) связь с другим (вторым) Я, в которой интимно – личностное общение не прерывается ни при каких обстоятельствах, является порой единственным условием выживаемости. Аналогичный пример можно найти и у путешественника и специалиста по аутотренингу Х. Линдемана, переплывшего в экспериментальных целях на надувной лодке Атлантику за 72 дня.
В результате ряда исследований В.И. Лебедев пришел к заключению о том, что персонификация неодушевленных объектов (например, фотографий, кукол, любых вещей) и животных в условиях одиночества обусловливается потребностью объективировать партнера по общению в какой-то вещественной, материальной форме. Общение в таких условиях снимает напряжение. Кстати, психиатры сделали вывод о том, что эффективным средством предупреждения неврозов в условиях стресса является разговор вслух с самим собой.
Общение в таких условиях снимает напряжение. Кстати, психиатры сделали вывод о том, что эффективным средством предупреждения неврозов в условиях стресса является разговор вслух с самим собой.
Выход из ЭС и ЧС
Психологические детерминанты
Самосохранения
Не менее важным является выход их экстремальной или чрезвычайной ситуации. Исследования отмечают, что “шлейф” сохраняется как минимум двое суток и сопровождается острой реакцией. О.Н. Кузнецов и В.И. Лебедев выявили, что в поведении большинства испытуемых после прекращения длительных сурдокамерных экспериментов наблюдалась двигательная геперактивность, сопровождавшаяся оживленной мимикой и пантомимикой. Многие из них навязчиво стремились вступить в разговор с окружающими. Они много шутили и сами смеялись надо своими остротами, причем в обстановке, не совсем подходившей для проявления такой веселости. В этот период они отличались повышенной впечатлительностью.
Даже через два – четыре года эти люди отмечали ряд фактов и мелких деталей, которые запомнились им до мельчайших подробностей и расценивались как особо приятные, эмоционально ярко окрашенные. Нередко отмечалось “перескакивающее” внимание. Каждое новое впечатление как бы вызывало забывание предшествующего и переключало внимание на новый объект. Большинство испытуемых были довольны собой и высоко оценивали проведенный эксперимент, хотя в ряде случаев это была некритичная оценка проделанной работы. Своих ошибок при экспериментально – психологическом исследовании в послеизоляционном периоде испытуемые не замечали, а при указании экспериментатора на ошибки реагировали крайне благодушно, хотя и старались, иногда весьма убедительно, представить свою работу в лучшем свете.
В ряде исследований так же было показано, что в условиях групповой изоляции с увеличением времени пребывания (три – шесть лет) у сотрудников начинает преобладать психопатические и шизоидные проявления личности, склонность к повышенному настроению, отмечаются неадекватность этической ориентации принятым нормам, импульсивность, склонность к конфликтам, плохо предсказуемому поведению и др.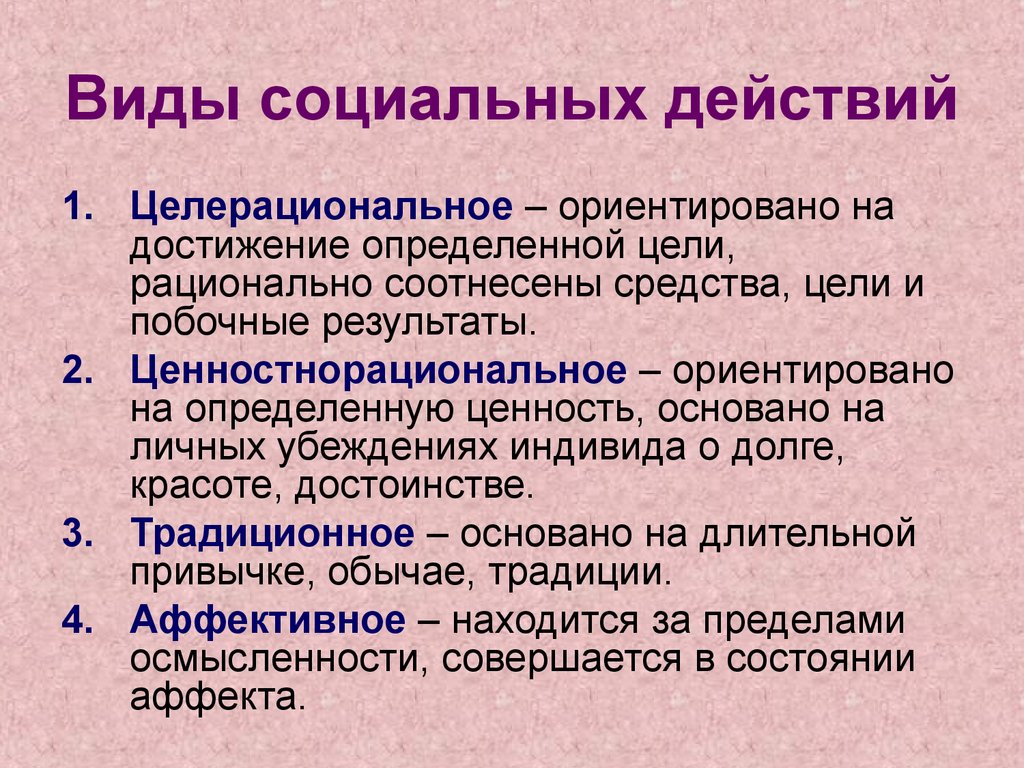 Например, после 12 лет жизни в Арктике и на высокогорье в структуре личности начинают доминировать ипохондрические тенденции со склонностью к пониженному настроению в сочетании с ростом социальной интроверсии.
Например, после 12 лет жизни в Арктике и на высокогорье в структуре личности начинают доминировать ипохондрические тенденции со склонностью к пониженному настроению в сочетании с ростом социальной интроверсии.
В исследованиях доцента кафедры психологии здоровья и физической культуры Южного федерального университета Л.Р. Правдиной показано, что люди по-разному оценивают как экспериментальные ситуации, так и свои собственные возможности их преодоления. Ею были смоделированы экспериментальные ситуации и выявлено их влияние на динамику социально – психологических характеристик личности (самооценку, степень осмысленности жизни, стратегию преодоления) в связи с особенностями представлений личности об экстремальной ситуации. Например, у участников туристического похода в результате пребывания в экстремальных условиях социально – психологические характеристики личности изменяются следующим образом. Для лиц, представляющих экстремальную ситуацию :
— как приключение, характерно разнонаправленное, дисгармоничное изменение частных самооценок, возрастание самоуважения и доминантности, удовлетворенности самореализацией;
— как угрозу, характерно разнонаправленное, дисгармоничное изменение частных самооценок, снижение самоуважения, развитие тревожности, повышение степени целеустремленности;
— как испытание, характерно повышение самооценок по всем параметрам, повышение степени целеустремленности и удовлетворенности самореализацией.
Показано так же, что в процессе пребывания испытуемых в моделируемой экстремальной ситуации (в условиях приключенческого тура) у большинства респондентов происходит возрастание степени осмысленности жизни, целеустремленности и удовлетворения самореализацией.
Результаты исследований психолога И.В. Камыниной позволили заключить, что интенсивное использование (эксплуатация) внутреннего ресурсного потенциала личности, находящейся в экстремальных условиях, может привести к истощению ресурсов и, как следствие, к ее астенизации и невротизации.
В связи с этим актуальной становится разработка стратегий профессиональной психологической помощи, направленной на сохранение и развитие личностного потенциала людей, проживающих в экстремальных условиях. При этом важно учитывать особенности динамики копинг – стратегий (т.е. реакцию человека на чрезмерные или превышающие его ресурсы требования, а так же каждодневные стрессовые ситуации) и их специфику на каждом этапе развития личности, в частности целесообразно пропедевтическое стимулирование детей в овладении навыками конструктивных коммуникаций, формировании адекватной самооценки личности.
Действие
Джордж Уилсон, Сэмюэль Шполл
Впервые опубликовано 18.03.2002, существенные изменения от 04.04.2012.
Если
голова человека наклоняется, то он мог наклонить ее или не делать этого, и в
случае, если он двигал ею, это действие он мог инициировать, или же его вызвало
в качестве пассивного какое-то другое занятие. Если человек совершил это
действие, то он мог сделать это намеренно или случайно. Эта небольшая подборка контрастов
(и иных, схожих с ними) послужила причиной возникновения вопросов о природе,
типах и специфичности действия. Кроме самого движения, поворот головы может
означать также выражение согласия или попытку вытряхнуть насекомое из уха. Должны
ли мы мыслить следствия физического поведения, конвенциональные или каузальные,
как составные элементы действия, отличные от движения, но «порождаемые» им? Или
же нам следует полагать, что имеет место единичное действие, описываемое
множеством способов? К тому же действия в самом минимальном смысле кажутся по
существу «активными».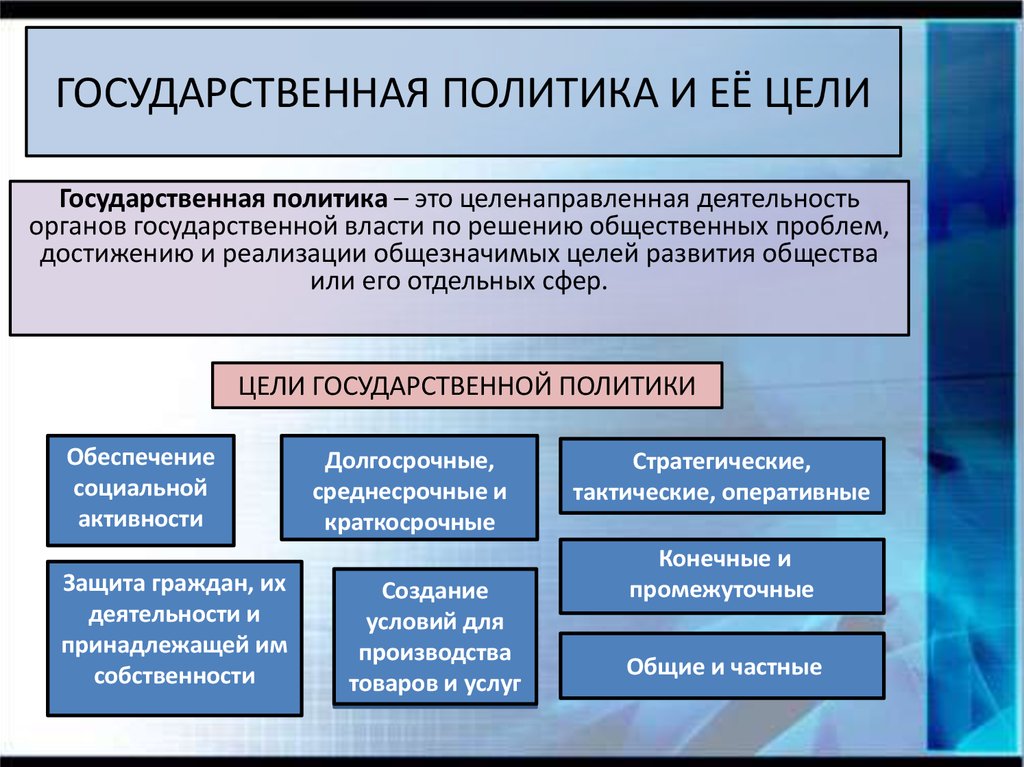
Дональд
Дэвидсон [Davidson 1980, essay
3] утверждал, что действие в основном смысле является чем-то, что деятель
совершает и что было «намеренным в каком-либо описании», и многие другие
философы согласны с ним в том, что существует понятийная связь между подлинным
действием, с одной стороны, и намерением, с другой стороны. Тем не менее
объяснить предполагаемую связь между этими двумя понятиями непросто. Во-первых,
в понятии «намерение» присутствуют различные понятийные модуляции, связи между
которыми непросто обрисовать, и было совершено уже немало попыток отображения
соотношения между намерениями, касающимися будущего, намеренным действием и
действием с определенным намерением. Во-вторых, само по себе представление, что
согласно одному описанию человеческое поведение является намеренным, а согласно
другому — нет, сложно ухватить.
Примечательная
и довольно известная дискуссия касалась того, являются ли мотивы деятеля к
действию причинами действия, — ведущееся на протяжении долгого времени
обсуждение специфики наших объяснений действий на основе здравого смысла.
Некоторые философы утверждали, что мы объясняем, почему деятель действовал так,
а не иначе, когда излагаем, каким образом нормативные соображения соотносятся с
действием понятным для него образом. Другие подчеркивали, что понятие
«намерение, с которым действует личность» имеет телеологическое измерение,
которое, с их точки зрения, не сводится к понятию «руководство мотивами деятеля
в качестве причин». Однако представление, согласно которому объяснения на
основе мотивов являются причинными объяснениями, остается доминирующим. Наконец,
недавние дискуссии возродили интерес к важным вопросам о природе намерения и
его особенности в качестве ментального состояния, а также о нормах,
определяющих рациональное планирование.
Другие подчеркивали, что понятие
«намерение, с которым действует личность» имеет телеологическое измерение,
которое, с их точки зрения, не сводится к понятию «руководство мотивами деятеля
в качестве причин». Однако представление, согласно которому объяснения на
основе мотивов являются причинными объяснениями, остается доминирующим. Наконец,
недавние дискуссии возродили интерес к важным вопросам о природе намерения и
его особенности в качестве ментального состояния, а также о нормах,
определяющих рациональное планирование.
1. Природа действия и деятельности
1.1. Знание о своих собственных действиях
1.2. Управление собственными действиями
2. Намеренное действие и намерение
3. Объяснение действия
4. Намерения и рациональность
Библиография
Основной
причиной постановки вопроса о природе действия выступает отсылка к интуитивно
понятному различию между вещами, которые просто происходят с людьми — событиями, которые с ними происходят, — и
разнообразными вещами, которые они сами делают. Последние, дела, являются актами или действиями деятеля, и вопрос о природе
действия должен быть следующим: каким образом действие отличается от обычного
события или происшествия? К настоящему моменту более полно определены
особенности глагола «делать» и сформировано отчетливое понимание того, что
вопрос сформулирован неверно. К примеру, человек может кашлять, чихать,
моргать, краснеть и биться в припадке — все это вещи, которые человек в
минимальном смысле этого слова «делает», хотя обычно деятель пассивен в ходе исполнения
этих «дел». Естественно возразить, что это — не тот смысл «дела», который
умудренный опытом философ действия имеет в виду, но в то же время непросто и сказать,
каков этот смысл. Более того, как отмечал Гарри Франкфурт [Frankfurt 1978], целенаправленное поведение
животных конституирует разновидность «активного» действия низшего уровня. Когда
паук ползет по столу, он
Последние, дела, являются актами или действиями деятеля, и вопрос о природе
действия должен быть следующим: каким образом действие отличается от обычного
события или происшествия? К настоящему моменту более полно определены
особенности глагола «делать» и сформировано отчетливое понимание того, что
вопрос сформулирован неверно. К примеру, человек может кашлять, чихать,
моргать, краснеть и биться в припадке — все это вещи, которые человек в
минимальном смысле этого слова «делает», хотя обычно деятель пассивен в ходе исполнения
этих «дел». Естественно возразить, что это — не тот смысл «дела», который
умудренный опытом философ действия имеет в виду, но в то же время непросто и сказать,
каков этот смысл. Более того, как отмечал Гарри Франкфурт [Frankfurt 1978], целенаправленное поведение
животных конституирует разновидность «активного» действия низшего уровня. Когда
паук ползет по столу, он
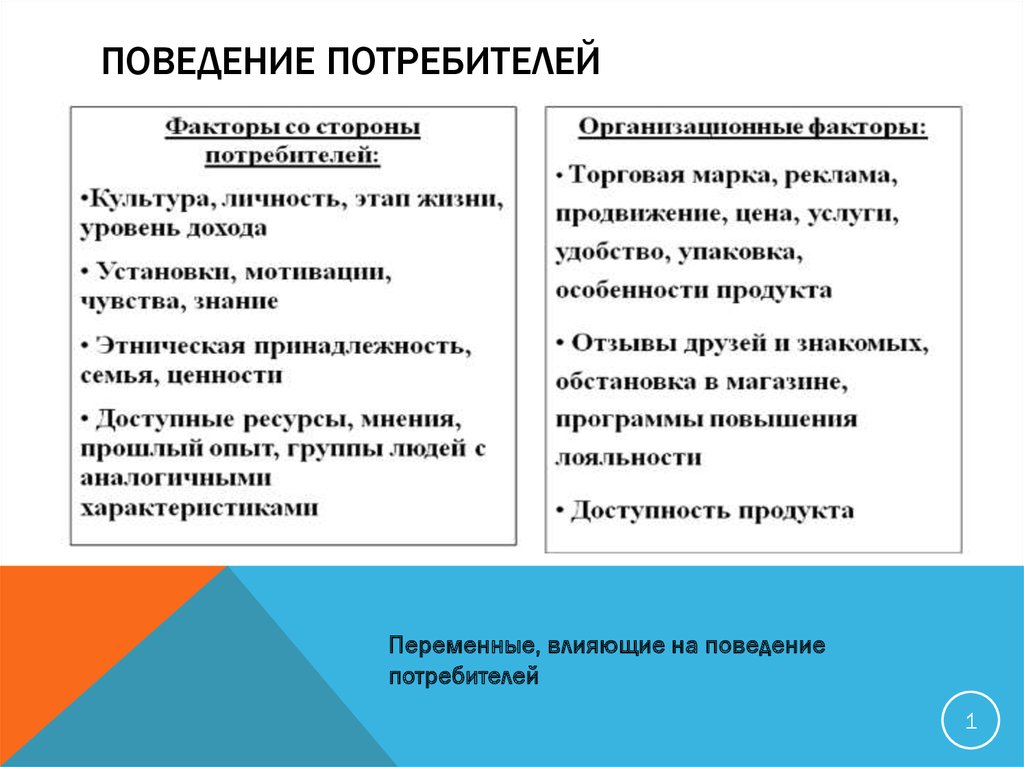 Сами эти движения являются целью для
паука, и потому они подпадают под своего рода телеологическое объяснение.
Сходным образом, праздные незаметные действия моих пальцев могут иметь своей
целью отделение фантика от конфеты. Вся эта поведенческая активность является «действием» в довольно слабом смысле этого
слова.
Сами эти движения являются целью для
паука, и потому они подпадают под своего рода телеологическое объяснение.
Сходным образом, праздные незаметные действия моих пальцев могут иметь своей
целью отделение фантика от конфеты. Вся эта поведенческая активность является «действием» в довольно слабом смысле этого
слова.Тем не менее большая часть действий человека имеет более богатую психологическую структуру, чем в приведенных случаях. Деятель проявляет активность, направленную на достижение цели и, как правило, деятель выбирает цель, исходя из общей оценки имеющихся у него альтернатив и возможностей. Более того, непосредственному осознанию деятеля доступно и то, что он осуществляет активность, о которой идет речь, и то, что она направлена на достижение определенной выбранной цели. На по-прежнему более сложном понятийном уровне Франкфурт [Frankfurt 1988, 1999] также утверждал, что в основных вопросах, имеющих отношение к свободе действия, предполагается и придается значимость понятию «действия на основе желания, с которым деятель
 Под влиянием Франкфурта было написано немало текстов, разъясняющих природу
«полноценной» человеческой деятельности, независимо от того, определяется ли
понятие в смысле Франкфурта или в других, но схожих смыслах (см. [Velleman 2000, essay 6; Bratman 1999, essay 10]). Таким образом, существует
несколько уровней действия, подлежащих различению, и к их числу относится, по
крайней мере, следующее: бессознательное и/или рефлекторное поведение,
преднамеренная и целенаправленная активность (к примеру, паука Франкфурта),
намеренное действие и автономные акты или действия деятелей-людей, обладающих
самосознанием. В связи с каждым ключевым понятием этого описания возникают
трудности.
Под влиянием Франкфурта было написано немало текстов, разъясняющих природу
«полноценной» человеческой деятельности, независимо от того, определяется ли
понятие в смысле Франкфурта или в других, но схожих смыслах (см. [Velleman 2000, essay 6; Bratman 1999, essay 10]). Таким образом, существует
несколько уровней действия, подлежащих различению, и к их числу относится, по
крайней мере, следующее: бессознательное и/или рефлекторное поведение,
преднамеренная и целенаправленная активность (к примеру, паука Франкфурта),
намеренное действие и автономные акты или действия деятелей-людей, обладающих
самосознанием. В связи с каждым ключевым понятием этого описания возникают
трудности. 1.1. Знание о своих собственных действиях
Нередко
отмечается, что деятель обладает своего рода непосредственным осознанием своей собственной физической активности
и тех целей, на реализацию которых она направлена. В связи с этим Элизабет
Энском [Anscombe 1963]
говорила о «знании без наблюдения».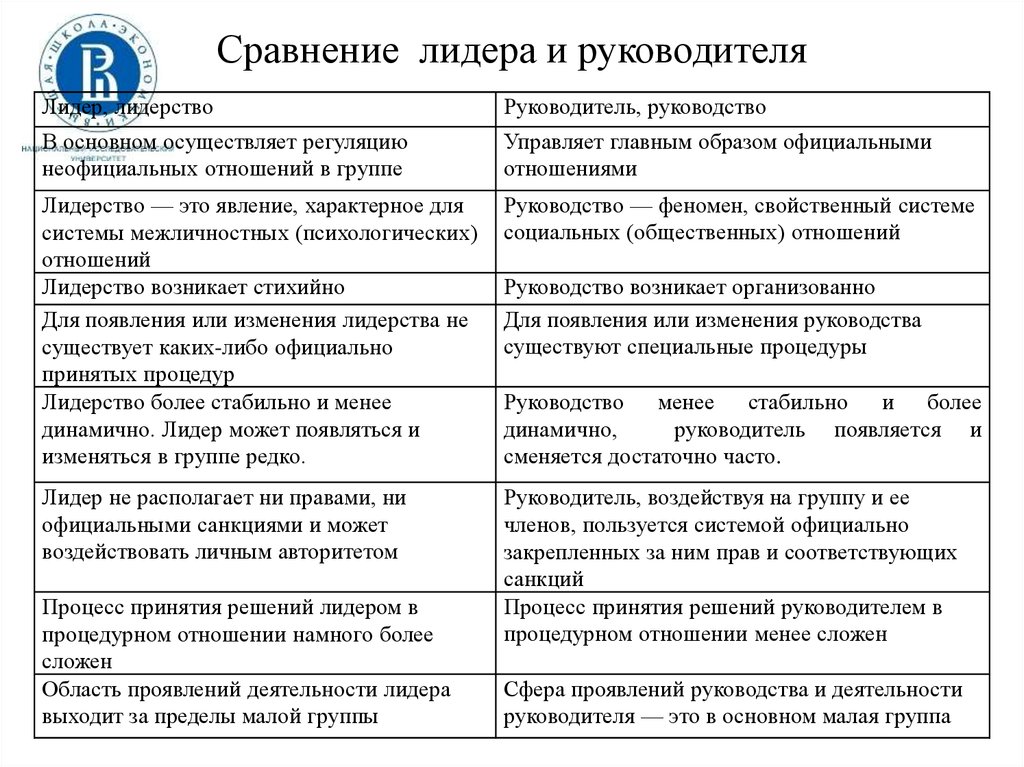 Деятель и «без наблюдения» знает, что он
производит определенные телесные движения (возможно, в соответствии с некоторым
приблизительным, но принимаемым во внимание описанием), и ему известно «без
наблюдения», каким целям должно служить его поведение (см. также [Falvey 2000]). Обсуждение этого тезиса
Энском обширно и ведет к дальнейшим размышлениям, однако ее концепция «знания
посредством наблюдения» остается проблематичной. Естественно, хочется сказать,
что проприоцепция и кинестетическое восприятие играют определенную роль в
информировании деятеля о положении и движениях его тела, и неясно, почему эта
функция информирования не может считаться видом внутреннего «наблюдения»
собственного публичного физического поведения. Энском явным образом отрицает,
что деятели узнают о положении и движении их собственных тел посредством
«отдельно описываемых восприятий», выступающих критериями истинности их
суждений об исключительно физическом функционировании их тел.
Деятель и «без наблюдения» знает, что он
производит определенные телесные движения (возможно, в соответствии с некоторым
приблизительным, но принимаемым во внимание описанием), и ему известно «без
наблюдения», каким целям должно служить его поведение (см. также [Falvey 2000]). Обсуждение этого тезиса
Энском обширно и ведет к дальнейшим размышлениям, однако ее концепция «знания
посредством наблюдения» остается проблематичной. Естественно, хочется сказать,
что проприоцепция и кинестетическое восприятие играют определенную роль в
информировании деятеля о положении и движениях его тела, и неясно, почему эта
функция информирования не может считаться видом внутреннего «наблюдения»
собственного публичного физического поведения. Энском явным образом отрицает,
что деятели узнают о положении и движении их собственных тел посредством
«отдельно описываемых восприятий», выступающих критериями истинности их
суждений об исключительно физическом функционировании их тел.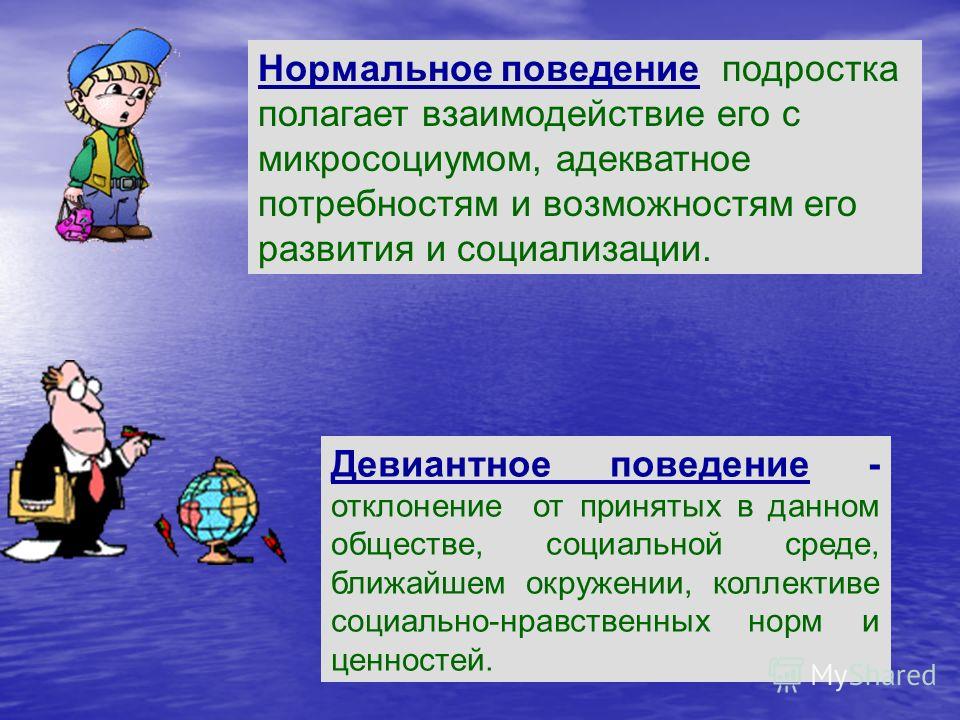
В том же
духе Дэвид Веллеман [Velleman
1989] описывает знание чьих-то текущих и зарождающихся действий как «спонтанное»
(знание, которое деятель получает без того, чтобы оно выводилось из
подтверждающей его наглядности) и «самореализуемое» (ожидания действия, которые
приводят к желаемым действиям). Согласно Веллеману, эти ожидания сами по себе
являются намерениями, и они преимущественно выводятся деятелем в ходе
практического рассуждения о том, что он собирается совершить. Таким образом,
Веллеман относится к тем, кого Сара Пол [Paul 2009] называет сторонниками
Сильного когнитивизма, отождествляющими
намерение с определенным относящимся к делу убеждением относительно того, что
человек делает или собирается сделать.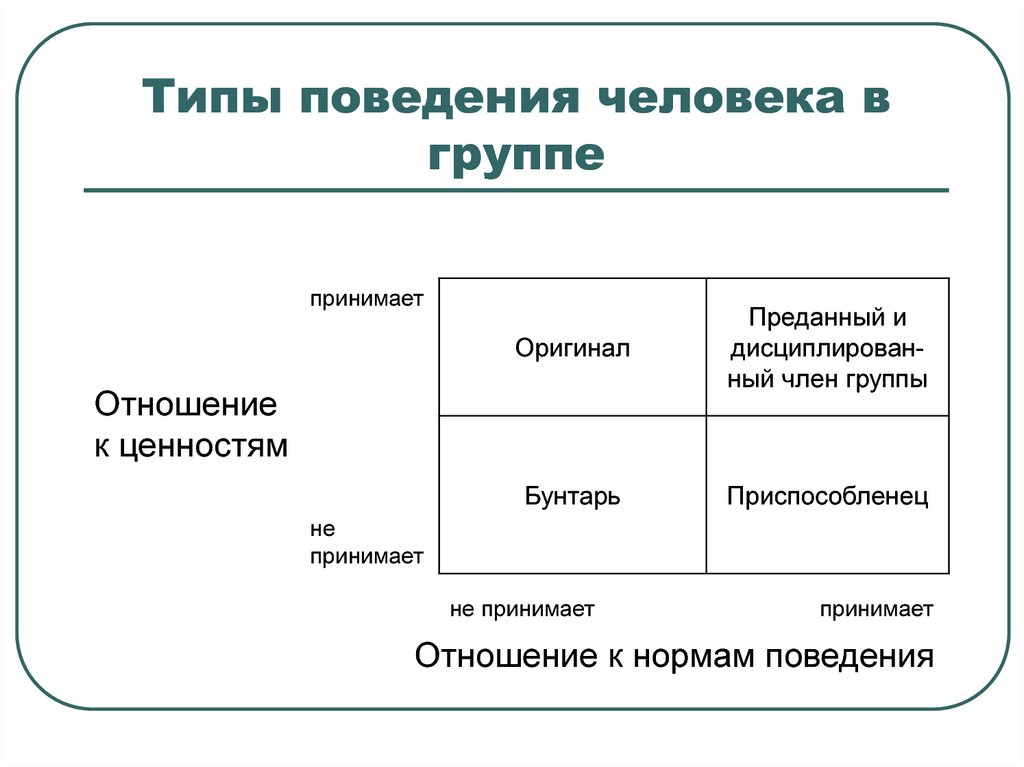 Сетийя [Setiya 2009] разделяет это мнение.
Сторонник Слабого когнитивизма, в терминах Пол, — это теоретик, по мнению
которого намерения совершить F частично
конституируются, но
не тождественны соответствующим убеждениям, что некто будет делать
Сетийя [Setiya 2009] разделяет это мнение.
Сторонник Слабого когнитивизма, в терминах Пол, — это теоретик, по мнению
которого намерения совершить F частично
конституируются, но
не тождественны соответствующим убеждениям, что некто будет делать
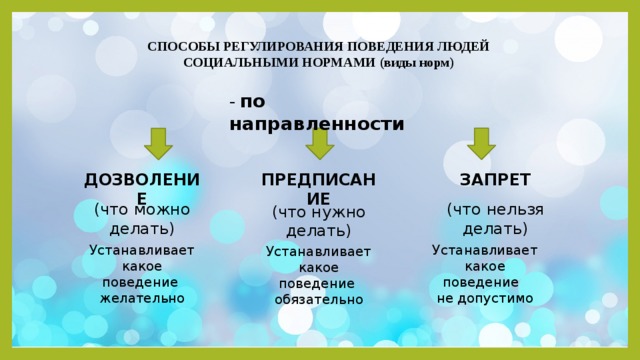 Сторонники Слабого когнитивизма могут
построить сходное рассуждение о том, каким образом собственные действия деятеля
могут в соответствующем смысле стать доступны для него без наблюдения.
Сторонники Слабого когнитивизма могут
построить сходное рассуждение о том, каким образом собственные действия деятеля
могут в соответствующем смысле стать доступны для него без наблюдения.Тем не
менее, еще не очевидно, что знание деятеля о своих намеренных действиях не выводится из непосредственного знания о
своих собственных намерениях. Рассмотрим, чтобы проиллюстрировать данную линию
размышлений, теорию намерения и действия Грайса. Как отмечалось выше, он
придерживался позиции Слабого когнитивизма, в соответствии с которой деятель
желает сделать F и выводит из своей осведомленности
об этом желании, что он будет делать F (или по крайней мере попытается сделать
F) именно потому, что у него было
желание это сделать. Однако весьма вероятно, как Сара Пол утверждает в
публикации 2009 года, что намерение совершить F, понятое
правильным образом, может занять место, эквивалентное тому, что занимают «желания»
в подходе Грайса. Таким образом, деятель, намеревающийся сделать F
в ближайшем будущем и непосредственно отдающий себе отчет в этом намерении,
формирует путем умозаключения убеждение, что он в скором времени сделает F
(или по крайней мере попытается сделать F) именно потому,
что у него было намерение так поступить. В конце концов, условное предложение
«Если деятель намеревается сделать F в ближайшее время и не передумает,
то вскоре он как минимум попытается сделать F»,
по-видимому, известно a
priori. Убеждение, которое деятель получает
таким образом, не берется из наблюдения, хоть и выводится. Пол обозначает этот
подход как «концепция вывода», и ее не так-то легко сбросить со счетов (см.
также [Wilson
2000; Moran
2001]). Эти загадки о природе знания деятеля о своих собственных намеренных
действиях тесным образом переплетены с вопросами о природе намерения и о
природе объяснения действия.
Таким образом, деятель, намеревающийся сделать F
в ближайшем будущем и непосредственно отдающий себе отчет в этом намерении,
формирует путем умозаключения убеждение, что он в скором времени сделает F
(или по крайней мере попытается сделать F) именно потому,
что у него было намерение так поступить. В конце концов, условное предложение
«Если деятель намеревается сделать F в ближайшее время и не передумает,
то вскоре он как минимум попытается сделать F»,
по-видимому, известно a
priori. Убеждение, которое деятель получает
таким образом, не берется из наблюдения, хоть и выводится. Пол обозначает этот
подход как «концепция вывода», и ее не так-то легко сбросить со счетов (см.
также [Wilson
2000; Moran
2001]). Эти загадки о природе знания деятеля о своих собственных намеренных
действиях тесным образом переплетены с вопросами о природе намерения и о
природе объяснения действия. В заключительном разделе мы кратко коснемся
некоторых ключевых моментов, возникающих в связи с этим.
В заключительном разделе мы кратко коснемся
некоторых ключевых моментов, возникающих в связи с этим.
1.2. Управление собственными действиями
Для
понятия «целенаправленного действия» также важно, что обычно деятели
осуществляют прямой контроль или
способны управлять собственным поведением. Задействуя свою здоровую правую
руку, деятель может направлять свою парализованную левую руку таким образом,
чтобы провести ее по определенной траектории. Движение его правой руки,
приведенной в действие посредством нормального функционирования системы
контроля движения, является настоящим действием, а движение левой руки — нет.
Последнее является лишь каузальным результатом направляющего движения, точно
так же как и вспышка света в лампочке является результатом его действия, когда
он включает свет. Деятель напрямую контролирует движение правой руки, но не
левой. Между тем едва ли ясно, что означает «прямой контроль поведения». Он не
означает, что поведение А,
конституирующее выполнение или попытку выполнения действия F,
было инициировано и причинным образом управлялось по ходу его выполнения
обращенным в настоящее намерением делать F. Даже
управляемые внешним образом движения парализованной левой руки могли бы
удовлетворить данному условию слабого типа. Альфред Мили [Mele 1992] предположил, что интуитивная
«прямота» управления действием А
может быть частично зафиксирована путем введения условия, что управляющее
действием намерение должно вызывать и обеспечивать А непосредственно.
Другими словами, в качестве отдельного условия оговаривается, что обращенное в
настоящее намерение деятеля совершить F должно
направлять действие А, но не
посредством производства другого предшествующего или сопутствующего ему
действия А*, которое в свою очередь
управляло бы действием А как его причина.
Он не
означает, что поведение А,
конституирующее выполнение или попытку выполнения действия F,
было инициировано и причинным образом управлялось по ходу его выполнения
обращенным в настоящее намерением делать F. Даже
управляемые внешним образом движения парализованной левой руки могли бы
удовлетворить данному условию слабого типа. Альфред Мили [Mele 1992] предположил, что интуитивная
«прямота» управления действием А
может быть частично зафиксирована путем введения условия, что управляющее
действием намерение должно вызывать и обеспечивать А непосредственно.
Другими словами, в качестве отдельного условия оговаривается, что обращенное в
настоящее намерение деятеля совершить F должно
направлять действие А, но не
посредством производства другого предшествующего или сопутствующего ему
действия А*, которое в свою очередь
управляло бы действием А как его причина.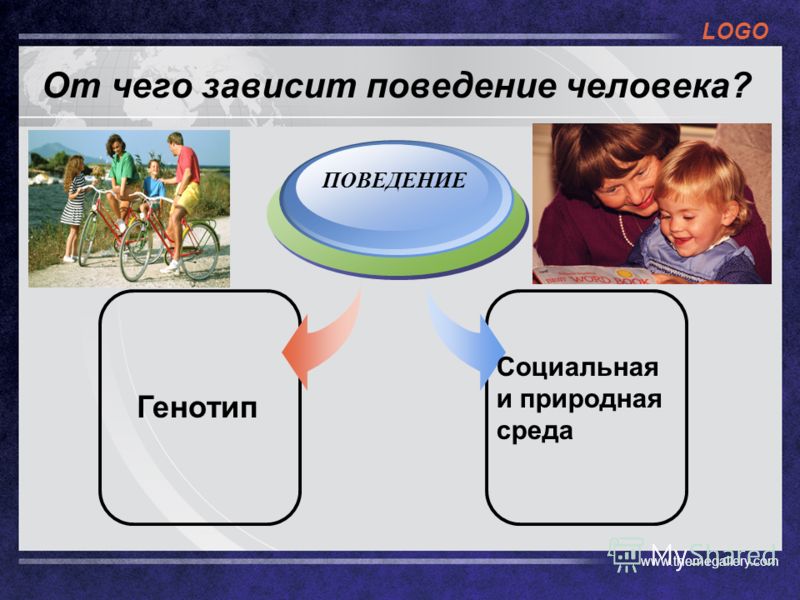 Однако данное предложение сомнительно. Согласно определенным предположениям,
большая часть обычных физических действий не соответствуют этому сильному
условию. Обычные произвольные движения конечностей деятеля вызваны сложными
сокращениями соответствующих мышц, и эти сокращения, поскольку они имеют своей
целью инициацию движения конечностей, могут сами по себе рассматриваться в
качестве каузально предшествующих действиям человека. К примеру, согласно
концепции действия Дэвидсона, они будут пониматься именно так, поскольку
сокращения мышц деятеля осуществляются намеренно согласно описанию «делать
нечто, что вызывает движение руки» (см. [Davidson 1980, essay 2]). Таким образом, публично
наблюдаемое движение руки в случае обычного намеренного движения руки будет
иметь в качестве причины, управляющей им, предшествующее действие, мышечное
сокращение, и, следовательно, каузальное управление движениями руки вообще не
будет примером «непосредственной» причинности (см.
Однако данное предложение сомнительно. Согласно определенным предположениям,
большая часть обычных физических действий не соответствуют этому сильному
условию. Обычные произвольные движения конечностей деятеля вызваны сложными
сокращениями соответствующих мышц, и эти сокращения, поскольку они имеют своей
целью инициацию движения конечностей, могут сами по себе рассматриваться в
качестве каузально предшествующих действиям человека. К примеру, согласно
концепции действия Дэвидсона, они будут пониматься именно так, поскольку
сокращения мышц деятеля осуществляются намеренно согласно описанию «делать
нечто, что вызывает движение руки» (см. [Davidson 1980, essay 2]). Таким образом, публично
наблюдаемое движение руки в случае обычного намеренного движения руки будет
иметь в качестве причины, управляющей им, предшествующее действие, мышечное
сокращение, и, следовательно, каузальное управление движениями руки вообще не
будет примером «непосредственной» причинности (см. [Senon 1998]).
[Senon 1998]).
Как мы можем видеть, данное заключение зависит от того, каким образом понимается акт движения какой-либо части тела. Некоторые философы утверждают, что движения тела деятеля не являются действиями. Только непосредственное передвижение деятелем, скажем, своей ноги конституирует действие; движение ноги вызвано и/или входит как составная часть в акт движения (см. [Hornsby 1980]). Данный тезис заново открывает возможность того, что каузальное управление движением ноги деятеля посредством соответствующего намерения является непосредственным. Намерение непосредственно управляет процессом передвижения, если не самим движением, и акт движения при этом представляется как начинающийся на ранней внутренней стадии акта инициализации. Тем не менее данное предположение также является спорным. К примеру, Остин [Austin 1962] считал, что утверждение
(1) Деятель передвинул ногу
допускает двоякое толкование (если не вдаваться в подробности):
(1’) Деятель вызвал движение своей ноги
и более точное
(1’’)
Деятель осуществил движение с помощью своей ноги.
Если Остин прав, тогда субстантивация «передвижение деятелем своей ноги» должна быть также неоднозначной, где в таком случае во втором прочтении указывается на движение ноги — движение, которое осуществил деятель. Таким образом, не существует простого способа отослать к предполагаемому различию между «движением» и «передвижением», чтобы легко сбросить со счетов концепцию «прямого контроля действия» в настоящем исследовании.
Так или
иначе, существует еще одна известная причина для сомнения в том, что
«непосредственность» управления деятелем своими собственными действиями
включает в себя условие каузальной близости — что означает, что действие не
должно контролироваться другим действием того же деятеля. Некоторые философы
полагают, что движение ногой, выполняемое деятелем, запускается и
осуществляется посредством усилия попытки
деятеля передвинуть ногу именно в данном направлении и что успешная попытка и
есть само по себе действие (см.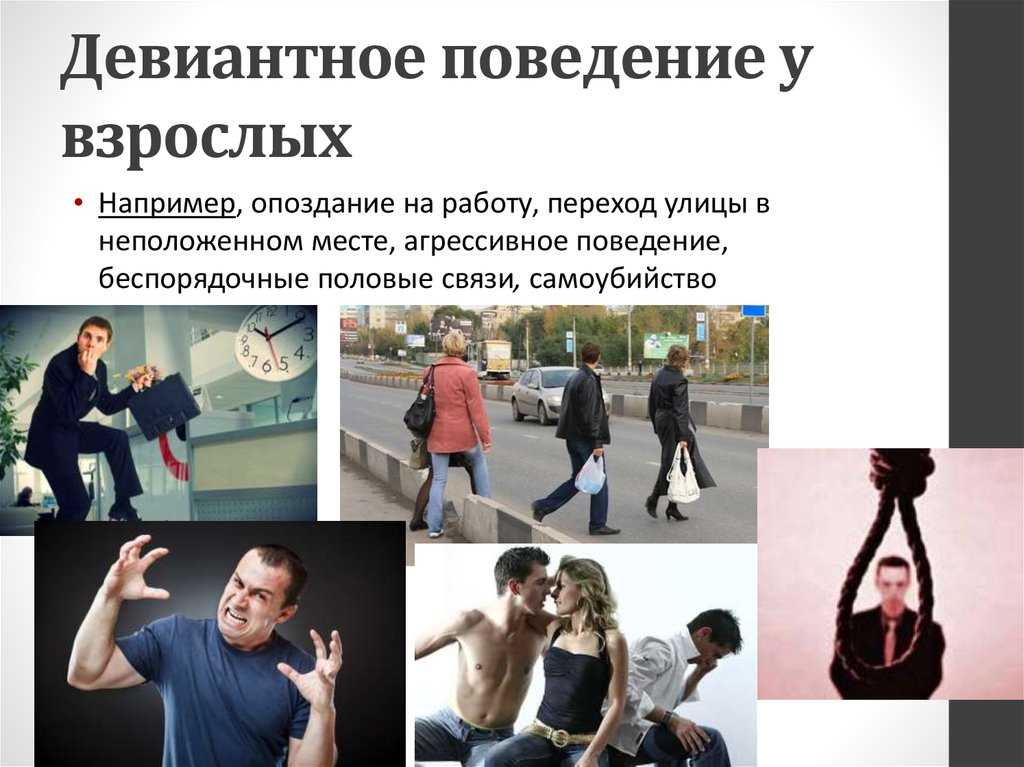 [Hornsby 1980; Ginet 1990; O’Shaughnessy 1973,
1980]). Если к тому же акт деятеля по передвижению ноги отличен от попытки,
тогда движение ноги не обусловливается ближайшим образом намерением. Истинность
и ложность этого третьего допущения связана с более общим вопросом об
индивидуации действия, также составляющим предмет большой дискуссии.
[Hornsby 1980; Ginet 1990; O’Shaughnessy 1973,
1980]). Если к тому же акт деятеля по передвижению ноги отличен от попытки,
тогда движение ноги не обусловливается ближайшим образом намерением. Истинность
и ложность этого третьего допущения связана с более общим вопросом об
индивидуации действия, также составляющим предмет большой дискуссии.
Дональд Дэвидсон [Davidson 1980, essay 1], соглашаясь с Энском утверждал, что
(2) Если человек совершает F посредством G, то тогда его действие F = его действие G.
В
знаменитом примере Дэвидсона человек пугает грабителя, осветив комнату
посредством включения лампы, что он, в свою очередь, сделал, щелкнув по выключателю.
В соответствии с обозначенным выше тезисом Дэвидсона/Энском, отпугивание вора = освещение комнаты = включение лампы = щелчок выключателя. И это так,
невзирая на то, что отпугивание вора произошло случайно, тогда как щелчок
выключателя, включение света и освещение комнаты были преднамеренными.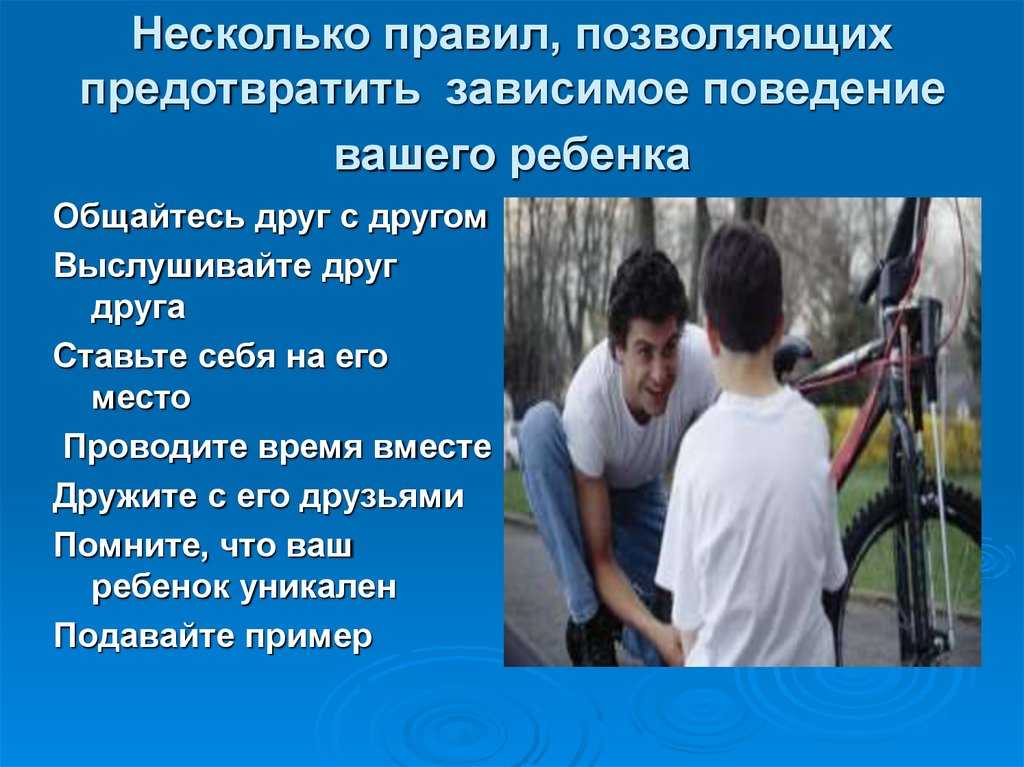 Теперь
предположим, что также истинно то, что деятель передвинул свою ногу посредством попытки передвинуть ее именно
таким образом. Присовокупив к этому тезис Дэвидсона и Энском об определении
действия, тем самым получим, что акт деятеля по передвижению его ноги = его
акт попытки передвинуть ее. Таким образом, возможно, акт попытки передвинуть
ногу не вызывает действие движения, поскольку они являются одним и тем же.
Теперь
предположим, что также истинно то, что деятель передвинул свою ногу посредством попытки передвинуть ее именно
таким образом. Присовокупив к этому тезис Дэвидсона и Энском об определении
действия, тем самым получим, что акт деятеля по передвижению его ноги = его
акт попытки передвинуть ее. Таким образом, возможно, акт попытки передвинуть
ногу не вызывает действие движения, поскольку они являются одним и тем же.
Вопросы, встречающиеся в этих дебатах, потенциально довольно запутанны. Во-первых, важно различать такие фразы, как
(а) включение света деятелем,
и такие фразы с причастиями как
(b) включение света, выполненное деятелем.
В общем выражение (а) устроено, скорее, как придаточное предложение с союзом «что», например,
(а’) что деятель включил свет,
тогда как вторая фраза является точным описанием, то есть:
(b’) включение света деятелем.
Более того, даже когда различие
установлено, денотаты фраз с причастием часто остаются неопределенными,
особенно когда глаголы, субстантивация которых осуществляется в этих фразах, стоят
в побудительном залоге.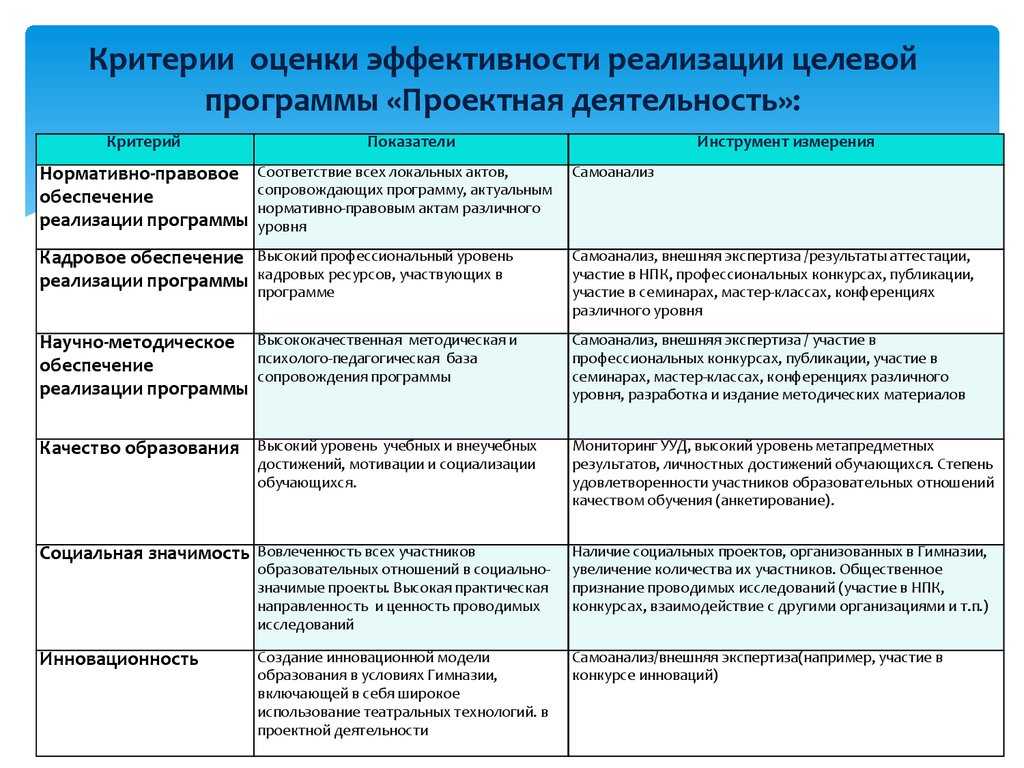 Невозможно отрицать, что имеет место внутренне сложный
процесс, инициируемый движением руки деятеля, касающейся выключателя, и он
завершается включением света как результатом. Данный процесс включает в себя инициирующее
его действие и событие, являющееся его кульминацией, но он не тождественен им.
Тем не менее в подходящей разговорной обстановке фразы (b) и (b’) могут использоваться таким
образом, чтобы обозначать любое из трех событий: действие, посредством которого
включают свет, включение света и весь процесс, в ходе которого свет должен быть
включен (далее см. [Parsons
1990; Pietrofsky
2000; Higginbotham
2000]).
Невозможно отрицать, что имеет место внутренне сложный
процесс, инициируемый движением руки деятеля, касающейся выключателя, и он
завершается включением света как результатом. Данный процесс включает в себя инициирующее
его действие и событие, являющееся его кульминацией, но он не тождественен им.
Тем не менее в подходящей разговорной обстановке фразы (b) и (b’) могут использоваться таким
образом, чтобы обозначать любое из трех событий: действие, посредством которого
включают свет, включение света и весь процесс, в ходе которого свет должен быть
включен (далее см. [Parsons
1990; Pietrofsky
2000; Higginbotham
2000]).
Рассмотрим
теперь тезис Дэвидсона-Энском, касающийся отношения, существующего между актом включения света деятелем, его актом щелчка по выключателю и так далее.
Какая конфигурация событий, предшествующих или включенных в расширенный
каузальный процесс включения света, действительно конституирует действие
деятеля? Некоторые философы отдавали предпочтение наблюдаемому движению руки
деятеля, другие — расширенному причинному процессу, который был им инициирован,
а некоторые — относящемуся к процессу акту попытки, предшествующему всему
остальному и «порождающему» его. Как оказалось, сложно найти аргументы в пользу
одного или другого решения, не ставя под вопрос сами конкурирующие позиции. Как
было отмечено выше, Хорнсби (Hornsby)
и другие авторы обращали внимание на интуитивно очевидную истинность высказывания:
Как оказалось, сложно найти аргументы в пользу
одного или другого решения, не ставя под вопрос сами конкурирующие позиции. Как
было отмечено выше, Хорнсби (Hornsby)
и другие авторы обращали внимание на интуитивно очевидную истинность высказывания:
(3) Деятель привел в движение свою руку посредством попытки выполнить это движение,
и они
обращаются к тезису Дэвидсона-Энском, чтобы утверждать, что акт движения руки = акт попытки совершения этого движения.
Согласно данной точке зрения, акт попытки (который является актом движения) каузально обусловливает движение руки тем
же путем, каким акт движения руки вызывает свечение в лампочке. И начало
свечения, и наблюдаемое движение руки являются просто каузальными следствиями
действия самого по себе: акта попытки привести в движение руку. Далее, в свете
видимой непосредственности и прочного авторитета первого лица в суждениях
деятелей о том, что они пытались сделать определенную вещь, оказывается, что
акты попыток являются по существу психическими актами.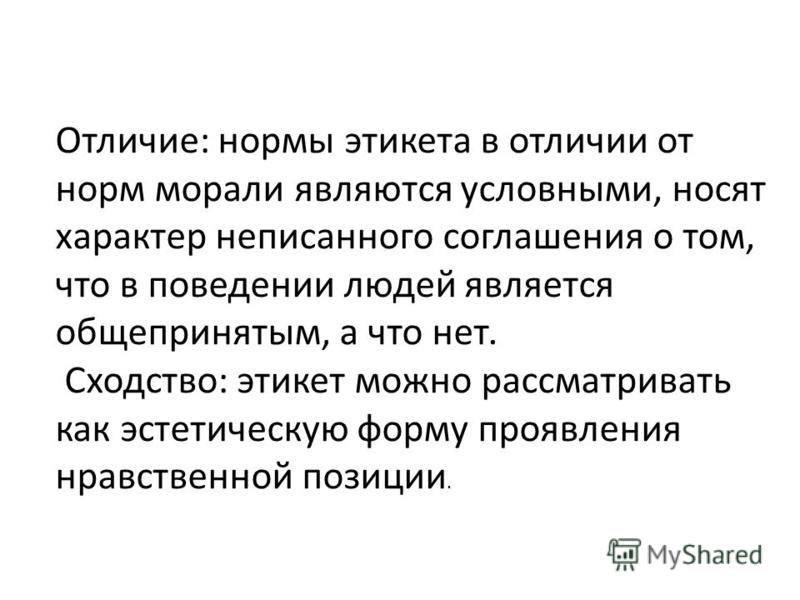 Таким образом, особый
тип психических актов является каузальным источником телесного поведения, что
обосновывает разнообразные физические переописания этого акта.
Таким образом, особый
тип психических актов является каузальным источником телесного поведения, что
обосновывает разнообразные физические переописания этого акта.
И тем не менее ничто из этого не кажется обязательным. Спорно, что
(4) Деятель пытался включить свет
означает просто, по крайней мере, в первом приближении, что
(4’) Деятель сделал нечто, что было направлено на включение света.
Более
того, если (4) и (4’) истинны, тогда то, что деятель совершил для включения
света, окажется чем-то иным, каузально предшествующим действию — акту щелчка по
выключателю, например. Если это верно в отношении простых действий (движения
руки, например) так же, как и в отношении сложных, инструментальных действий,
тогда попытка совершить движение собственной рукой может быть не более чем
осуществлением чего-то, направленного на приведение в движение руки. В данном
случае нечто, что было сделано, могло состоять в сокращении мышц деятеля.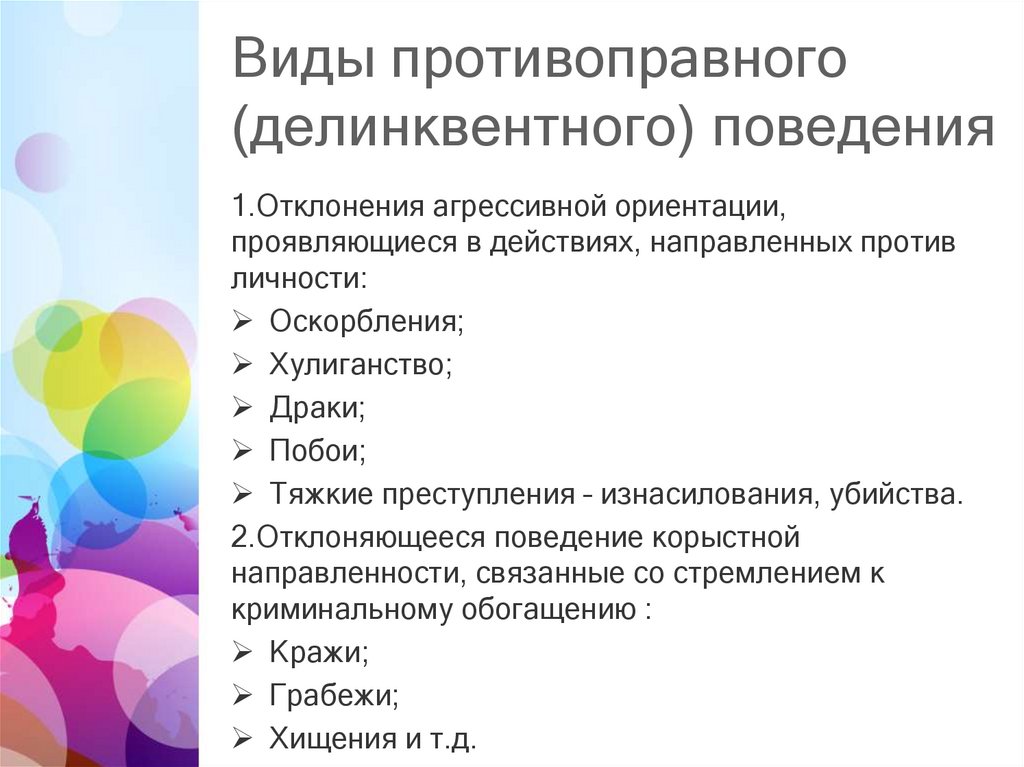 Или, например,
если мы обратимся к классическому случаю человека, чья рука парализована, но он
не знает об этом, то в данном случае (а возможно, и во всех случаях) попытка будет
не более чем активацией определенных нейронных систем в головном мозге.
Конечно, большая часть деятелей не отдает себе отчета в том, что именно они запускают соответствующую нейронную
активность, но им известно о том, что они делают нечто, что, как
предполагается, приведет в движение руку. В действительности тем, что они
осознают как причины движения руки, может оказаться нейронная активность в
головном мозге. С этой точки зрения, «попытка совершить F»
не называет естественный ментальный акт, который обычно запускает
последовательность соответствующих физических ответных реакций. Скорее это выражение
дает нам способ описания действий с точки зрения цели, направленной на
определенное поведение, не обязывая нас учитывать, была ли достигнута цель или
нет.
Или, например,
если мы обратимся к классическому случаю человека, чья рука парализована, но он
не знает об этом, то в данном случае (а возможно, и во всех случаях) попытка будет
не более чем активацией определенных нейронных систем в головном мозге.
Конечно, большая часть деятелей не отдает себе отчета в том, что именно они запускают соответствующую нейронную
активность, но им известно о том, что они делают нечто, что, как
предполагается, приведет в движение руку. В действительности тем, что они
осознают как причины движения руки, может оказаться нейронная активность в
головном мозге. С этой точки зрения, «попытка совершить F»
не называет естественный ментальный акт, который обычно запускает
последовательность соответствующих физических ответных реакций. Скорее это выражение
дает нам способ описания действий с точки зрения цели, направленной на
определенное поведение, не обязывая нас учитывать, была ли достигнута цель или
нет. Также мы не обязаны принимать в расчет:
Также мы не обязаны принимать в расчет:
i. внутренний характер поведения, нацеленного на исполнение F,
ii. было ли осуществлено действие или несколько действий в ходе попытки и
iii. были ли какие-либо дальнейшие телесные явления, связанные с попыткой, сами по себе дополнительными физическими действиями (см. [Cleveland 1997]).
В
отличие от этого, хорошо известно учение, согласно которому деятелю в первую
очередь, чтобы вызвать движение своей руки, нужно сформировать отдельное
психическое явление, сущностная природа которого и содержание непосредственно
доступны интроспективно. Деятель желает,
чтобы его рука пришла в движение, или он имеет волевой акт, согласно которому его рука должна двинуться, и именно
желание или волевой акт нацелены на то, чтобы вызвать движение его руки. Точно
так же, как попытка включить свет может конституироваться щелчком по
выключателю, в стандартных случаях попытка пошевелить рукой конституируется желанием
деятеля, чтобы его рука пришла в движение. Согласно традиционному «учению о
воле», желания, воления, обычные попытки, как это удачно сформулировал Брайан
О’Шоннеси (O’Shaughnessy), являются «примитивными элементами
сознания животного» [1]. Они являются элементами
сознания, в которых деятель играет активную роль, и представляют собой эпизоды,
которые, как правило, обладают силой, производящей телесные движения, которые
они представляют. Тем не менее одно дело соглашаться с тем, что в попытке
привести в движение свое тело присутствует «внутренняя» активность, которая,
как считается, инициирует намеченное ранее телесное движение. Совсем другое
дело утверждать, что действия по инициированию имеют определенные психические
атрибуты, которые в учении о воле, как правило, приписываются актам воли.
Согласно традиционному «учению о
воле», желания, воления, обычные попытки, как это удачно сформулировал Брайан
О’Шоннеси (O’Shaughnessy), являются «примитивными элементами
сознания животного» [1]. Они являются элементами
сознания, в которых деятель играет активную роль, и представляют собой эпизоды,
которые, как правило, обладают силой, производящей телесные движения, которые
они представляют. Тем не менее одно дело соглашаться с тем, что в попытке
привести в движение свое тело присутствует «внутренняя» активность, которая,
как считается, инициирует намеченное ранее телесное движение. Совсем другое
дело утверждать, что действия по инициированию имеют определенные психические
атрибуты, которые в учении о воле, как правило, приписываются актам воли.
Далее
возникает вопрос, одно ли действие,
телесное или какое-либо другое, выполняется в составе причинной цепочки,
начинающейся с попытки движения и заканчивающейся движением выбранного типа. Одна возможность, отсылающая к тому, что сказано выше, заключается в том, что
имеется целая каузальная цепочка действий,
что предполагается уже при исполнении самого простого физического акта движения
части тела. Если, к примеру, «действие» представляет собой целенаправленное
поведение, тогда как инициирующая его нейронная активность, как сокращение
мышц, к которому она приводит, так и наблюдаемое движение руки — все это может быть отдельными
действиями, где каждый член этой цепочки обусловливает появление каждого
последующего члена, и все эти действия обусловливают итоговый щелчок по
выключателю далее по ходу причинной цепочки. Согласно данному подходу, может не
существовать конкретного акта нажатия
на выключатель или включения света, потому что каждое звено причинной цепи
теперь представляет собой акт, вызывающий щелчок выключателя и (посредством
этого) включение света (см. [Wilson
1989]). Тем не менее все еще остается единичное наблюдаемое действие, посредством которого осуществляется щелчок по
выключателю, включение света и отпугивание грабителя, то есть наблюдаемое движение
руки деятеля.
Одна возможность, отсылающая к тому, что сказано выше, заключается в том, что
имеется целая каузальная цепочка действий,
что предполагается уже при исполнении самого простого физического акта движения
части тела. Если, к примеру, «действие» представляет собой целенаправленное
поведение, тогда как инициирующая его нейронная активность, как сокращение
мышц, к которому она приводит, так и наблюдаемое движение руки — все это может быть отдельными
действиями, где каждый член этой цепочки обусловливает появление каждого
последующего члена, и все эти действия обусловливают итоговый щелчок по
выключателю далее по ходу причинной цепочки. Согласно данному подходу, может не
существовать конкретного акта нажатия
на выключатель или включения света, потому что каждое звено причинной цепи
теперь представляет собой акт, вызывающий щелчок выключателя и (посредством
этого) включение света (см. [Wilson
1989]). Тем не менее все еще остается единичное наблюдаемое действие, посредством которого осуществляется щелчок по
выключателю, включение света и отпугивание грабителя, то есть наблюдаемое движение
руки деятеля.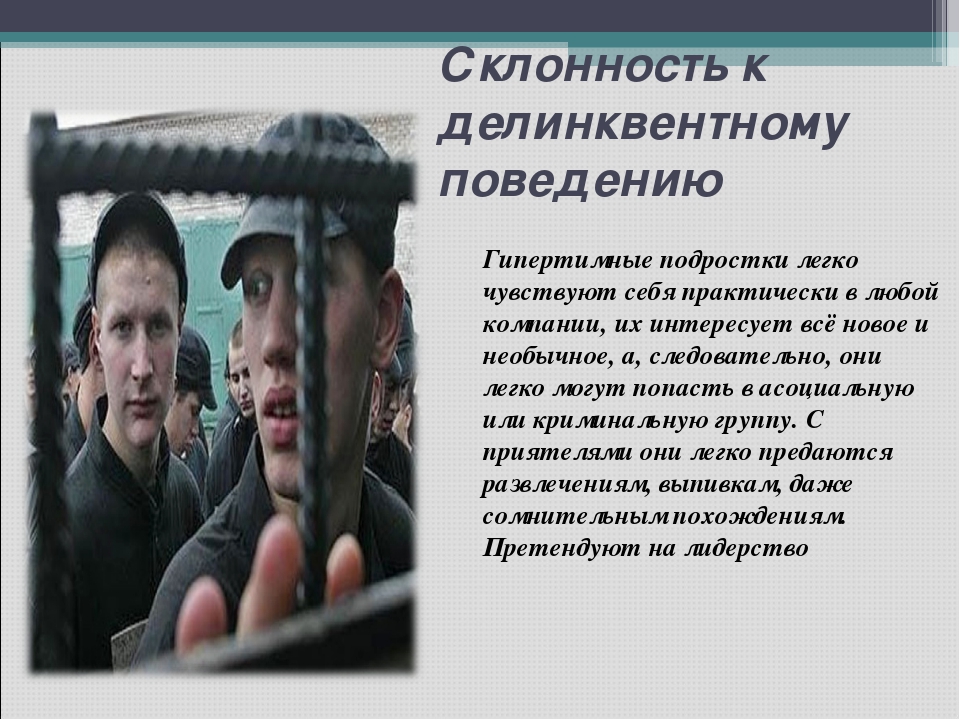 В этом смысле данное предположение поддерживает измененную версию
тезиса Дэвидсона/Энском.
В этом смысле данное предположение поддерживает измененную версию
тезиса Дэвидсона/Энском.
Однако во всей этой дискуссии игнорируется основная метафизическая загадка. В двух предшествующих абзацах предполагалось, что нейронная активность, мышечные сокращения, наблюдаемые движения руки могут рассматриваться в качестве действий, тогда как щелканье выключателем, зажигание света и отпугивание грабителя представлялись просто событиями, внешними по отношению к деятелю, простыми следствиями наблюдаемого действия деятеля. Как мы видели, отсутствует согласие по поводу того, где сущностная деятельность начинается и заканчивается: в теле деятеля или где-то вне его. Меньше разногласий существует в отношении того, что следствия телесных действий за пределами тела, как щелчок выключателем, освещение комнаты и так далее, сами по себе не являются целенаправленными действиями. И все же что поможет нам дать осмысленное объяснение любому набору различий между действием и не действием в ходе прослеживания соответствующих сложных причинных цепочек, идущих от изначальной сознательной или мозговой активности через движения тела к событиям, происходящим в окружающей среде деятеля?
Вероятно,
хочется сказать, что, как предполагалось выше, деятель обладает в определенном
смысле прямым (моторным) контролем над целенаправленным поведением его
собственного тела. Благодаря этой фундаментальной биологической способности его
телесная активность — и внутренняя, и внешняя — контролируется им и
направляется на достижение соответствующих целей. Внутренняя физическая
активность служит причиной (и направлена на то, чтобы служить причиной)
возникновения наблюдаемых движений руки, а эти движения, в свою очередь,
выступают причиной (и направлены на то, чтобы служить причиной) щелчка по
выключателю, включения света и освещения комнаты. Подчеркивая соображения
подобного рода, можно прийти к утверждению, что они оправдывают ограничение
действий событиями, происходящими в теле деятеля или на его поверхности. И тем
не менее остается упрямый факт: деятель также обладает определенным «контролем»
над тем, что происходит с выключателем, лампочкой и даже с состоянием сознания
грабителя. Целью деятеля является нажатие на выключатель, чтобы включить свет,
целью последнего является сделать помещение видимым и так далее.
Благодаря этой фундаментальной биологической способности его
телесная активность — и внутренняя, и внешняя — контролируется им и
направляется на достижение соответствующих целей. Внутренняя физическая
активность служит причиной (и направлена на то, чтобы служить причиной)
возникновения наблюдаемых движений руки, а эти движения, в свою очередь,
выступают причиной (и направлены на то, чтобы служить причиной) щелчка по
выключателю, включения света и освещения комнаты. Подчеркивая соображения
подобного рода, можно прийти к утверждению, что они оправдывают ограничение
действий событиями, происходящими в теле деятеля или на его поверхности. И тем
не менее остается упрямый факт: деятель также обладает определенным «контролем»
над тем, что происходит с выключателем, лампочкой и даже с состоянием сознания
грабителя. Целью деятеля является нажатие на выключатель, чтобы включить свет,
целью последнего является сделать помещение видимым и так далее.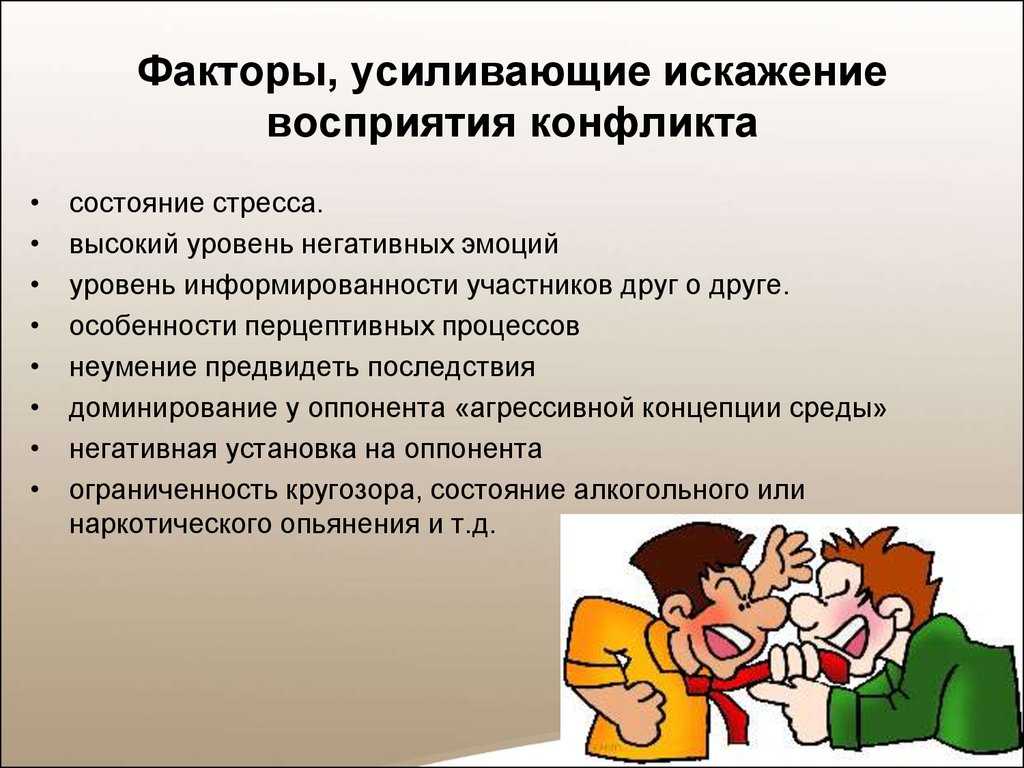 Следовательно,
основой для различения между минимальной деятельностью и недеятельностными
последствиями в рамках расширенных причинных цепочек должна быть особая черта поведения
личности: предполагаемая «непосредственность» моторного контроля,
непосредственность или относительная несомненность ожиданий деятеля касательно
действий в соотношении с их результатами или факты, предполагающие особый
статус живого тела деятеля. Ранее в этом разделе обращалось внимание на
серьезную трудность в понимании того, каким образом эти пути объяснения могут
обеспечить рациональную основу для необходимого метафизического различия(-ий).
Следовательно,
основой для различения между минимальной деятельностью и недеятельностными
последствиями в рамках расширенных причинных цепочек должна быть особая черта поведения
личности: предполагаемая «непосредственность» моторного контроля,
непосредственность или относительная несомненность ожиданий деятеля касательно
действий в соотношении с их результатами или факты, предполагающие особый
статус живого тела деятеля. Ранее в этом разделе обращалось внимание на
серьезную трудность в понимании того, каким образом эти пути объяснения могут
обеспечить рациональную основу для необходимого метафизического различия(-ий).
Энском начинает свою монографию «Намерение», отмечая, что понятие «намерение» встречается в следующих конструкциях:
(5) Деятель намеревается сделать G;
(6) Деятель совершил G намеренно; и
(7) Деятель совершил F c намерением cделать G.
Можно еще добавить:
(7’)
В ходе выполнения F (посредством выполнения F),
деятель намеревался совершить G.
Несмотря на то, что (7) и (7’) тесно связаны, речь в них идет не об одном и том же. К примеру, хотя может быть истинным, что
(8) Вероника убирала тогда кухню с намерением накормить своего фламинго после,
в обычных обстоятельствах не будет истинным то, что
(8’) Своей уборкой кухни Вероника намеревалась накормить после своего фламинго.
Несмотря на существующие между ними различия, будем считать, что примеры (7) и (7’) приписывают намерения действию [2]. В этих пропозициональных формах представлены знакомые лаконичные способы объяснения действия. Уточнение намерения, с которым деятель действовал или намерения, которое было у деятеля в ходе выполнения действия, дает объяснение общего типа тому, почему деятель действовал именно таким образом. Данное наблюдение будет проанализировано в разделе 3.
Утверждения
типа (5) приписывают намерение,
относящееся к будущему, хотя в виде исключения они включают в себя
атрибуции намерений, относящихся к
настоящему, то есть намерение деятеля заниматься G
сейчас.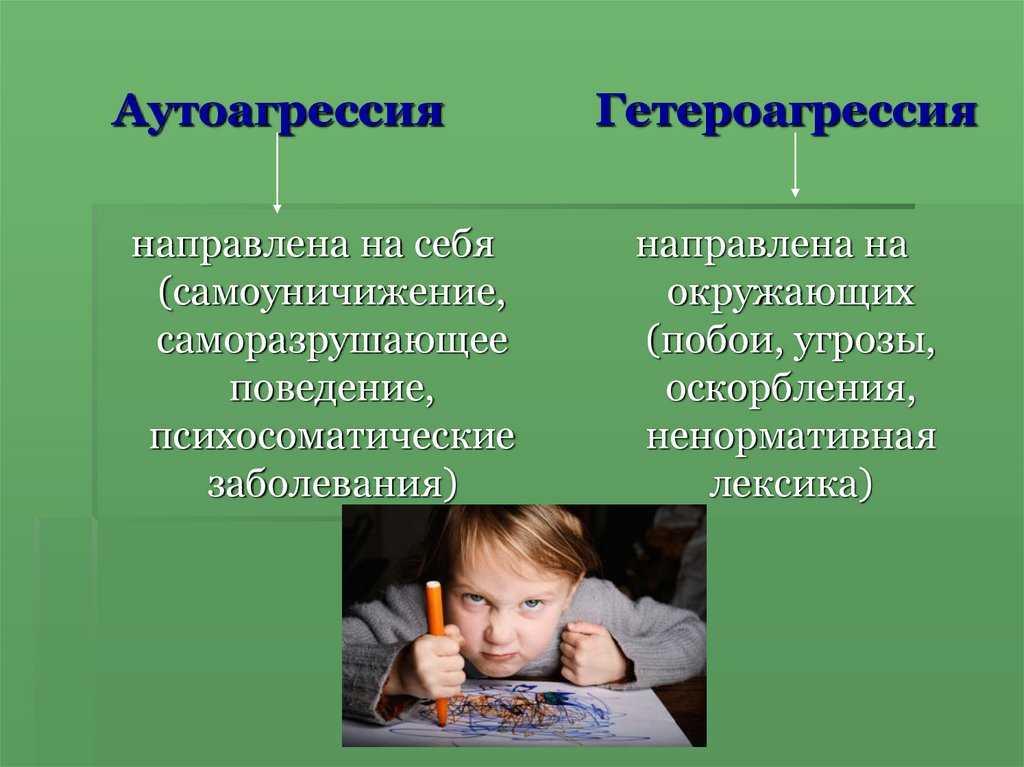 Утверждения формы (6), атрибуции намеренного действия, тесно связаны с
соответствующими случаями (7). По крайней мере, в первом приближении возможно,
что (6) истинно только в том случае, если
Утверждения формы (6), атрибуции намеренного действия, тесно связаны с
соответствующими случаями (7). По крайней мере, в первом приближении возможно,
что (6) истинно только в том случае, если
(6’) Деятель сделал G с намерением делать G.
Тем не менее некоторые авторы задавались вопросом о
том, отражает ли эта простая эквивалентность особое устройство того, что значит
совершать G намеренно [3]. Возьмем адаптированный пример из Дэвидсона [Davidson 1980, essay 4].
Предположим, что Бэтти убила Джагхеда и сделала это с соответствующим
намерением. И тем не менее предположим, что ее намерение реализовалось только
благодаря совершенно неожиданному случаю. Пуля, которой она стреляла, пролетела
далеко от Джагхеда, но задела ветки дерева над его головой и высвободила рой
шершней, напавших на него и зажаливших его до смерти. В данном случае как
минимум сомнительно, что таким образом Бэтти убила Джагхеда намеренно.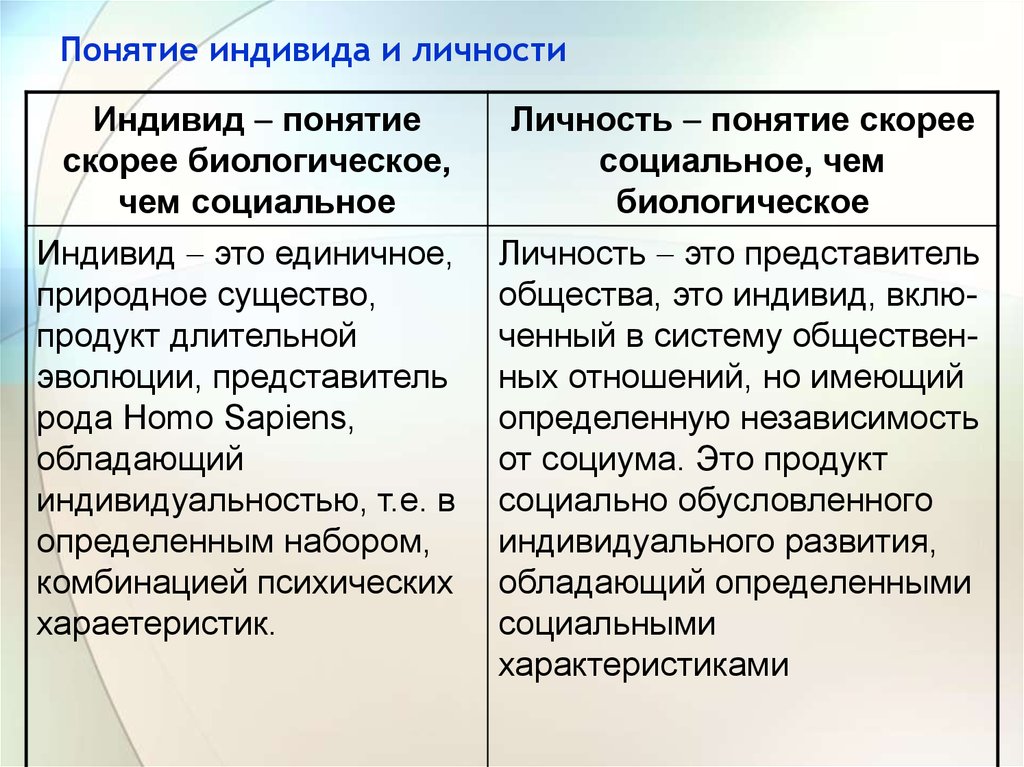 (В такой же мере сомнительно
и то, что Бэтти убила его ненамеренно).
Или предположим, что Регги выиграл в лотерею, и, имея странные иллюзии о том,
что у него есть способность определять, какой билет будет выигрышным, он
начинает игру и выигрывает ее, намереваясь ее выиграть [Mele 1997]. Из
первого примера следует, что к (6’) должно быть добавлено условие, в котором бы
говорилось, что деятель преуспел в исполнении G именно тем
путем, который соответствует плану, который у него был в отношении G, когда он начинал действовать. Из второго примера следует, что успешное
осуществление G деятелем должно являться
результатом искусного владения соответствующими навыками, а не должно быть слишком
зависимо от чистой случайности, неважно, предвиделась ли удача или нет.
Различные другие примеры наталкивали на дополнительные поправки и изменения (см.
[Harman 1976]).
(В такой же мере сомнительно
и то, что Бэтти убила его ненамеренно).
Или предположим, что Регги выиграл в лотерею, и, имея странные иллюзии о том,
что у него есть способность определять, какой билет будет выигрышным, он
начинает игру и выигрывает ее, намереваясь ее выиграть [Mele 1997]. Из
первого примера следует, что к (6’) должно быть добавлено условие, в котором бы
говорилось, что деятель преуспел в исполнении G именно тем
путем, который соответствует плану, который у него был в отношении G, когда он начинал действовать. Из второго примера следует, что успешное
осуществление G деятелем должно являться
результатом искусного владения соответствующими навыками, а не должно быть слишком
зависимо от чистой случайности, неважно, предвиделась ли удача или нет.
Различные другие примеры наталкивали на дополнительные поправки и изменения (см.
[Harman 1976]).
Существуют
более фундаментальные вопросы, касающиеся намерений в действиях и их связи с
намерениями, относящимися к настоящему и ближайшему будущему.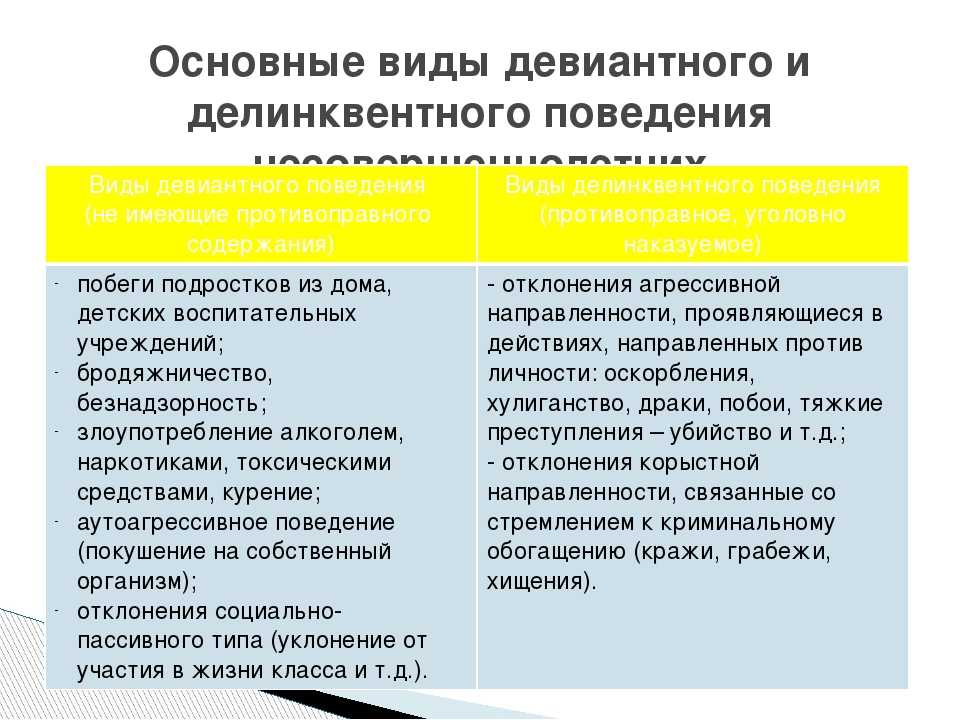 В книге
«Действия, мотивы и причины» Дэвидсон, как кажется, предполагает, что
приписывание намерения действию сводится к следующему:
В книге
«Действия, мотивы и причины» Дэвидсон, как кажется, предполагает, что
приписывание намерения действию сводится к следующему:
(7*) Деятель выполнил F, и в тот момент у него была склонность осуществить G, он также полагал, что посредством F он способствует или может способствовать осуществлению G, данная склонность вместе с представлением о средствах и цели послужили причиной F, и вместе они «правильным образом» послужили причиной его совершения.
(В часто
цитируемой фразе Дэвидсона склонность и связанное с ней представление о
средствах и цели составляют основной
мотив деятеля к выполнению F). В данном подходе к «намеренному
действию», судя по его строению, отсутствует упоминание об отдельном состоянии
обладания намерением. Дэвидсон во время написания этой ранней работы, судя по
всему, тяготел к редукции намерений, включая намерения, связанные с будущим, к склонностям,
соотнесенным убеждениям и другим потенциальным ментальным причинам действия. В
любом случае этот подход Дэвидсона явным образом противоречил концепции Энском,
изложенной в «Намерении». Она подчеркивала тот факт, что конструкции типа (7) и
(7’) поддерживают объяснения, строящиеся на основе здравого смысла, того,
почему деятель совершил F, и она настаивала на том, что
рассматриваемые объяснения не указывают на мотивы деятеля как на причины
действия. Таким образом, она имплицитно отрицает (7*), причинный анализ
«действия с определенным намерением», который явным образом предлагал Дэвидсон.
С другой стороны, из ее рассмотрения совсем неясно, каким образом на основе
намерений можно дать альтернативное объяснение действию.
В
любом случае этот подход Дэвидсона явным образом противоречил концепции Энском,
изложенной в «Намерении». Она подчеркивала тот факт, что конструкции типа (7) и
(7’) поддерживают объяснения, строящиеся на основе здравого смысла, того,
почему деятель совершил F, и она настаивала на том, что
рассматриваемые объяснения не указывают на мотивы деятеля как на причины
действия. Таким образом, она имплицитно отрицает (7*), причинный анализ
«действия с определенным намерением», который явным образом предлагал Дэвидсон.
С другой стороны, из ее рассмотрения совсем неясно, каким образом на основе
намерений можно дать альтернативное объяснение действию.
Причинный
анализ Дэвидсона был несколько модифицирован им в более поздней статье «В
состоянии намерения» [Davidson 1980,
essay 5]. Ко
времени написания этого эссе он отказался от представления, что не существует
базового состояния обладания намерением. Теперь намерения рассматриваются в
качестве нередуцируемых, и категория намерения отличается от более общей и богатой
категории, включающей в себя различные склонности. В частности, он
отождествляет намерения, обращенные в будущее, с наиболее общими суждениями
(оценками) деятеля, касающимися того, что ему следует делать. Хотя существует
некоторая неясность в отношении этих особенных практических «наиболее общих»
суждений, они играют важную роль в общей теории действия Дэвидсона, в частности
в его выдающейся концепции слабости воли [Davidson 1980, essay 2]. Несмотря на изменение
представлений о намерениях, Дэвидсон тем не менее не отказывается от основных
направлений своего причинного анализа намерений в действии — того, что значит
действовать с определенным намерением. В измененной версии
В частности, он
отождествляет намерения, обращенные в будущее, с наиболее общими суждениями
(оценками) деятеля, касающимися того, что ему следует делать. Хотя существует
некоторая неясность в отношении этих особенных практических «наиболее общих»
суждений, они играют важную роль в общей теории действия Дэвидсона, в частности
в его выдающейся концепции слабости воли [Davidson 1980, essay 2]. Несмотря на изменение
представлений о намерениях, Дэвидсон тем не менее не отказывается от основных
направлений своего причинного анализа намерений в действии — того, что значит
действовать с определенным намерением. В измененной версии
(7**) Основная причина совершения G для деятеля должна правильным образом обусловить планирование действия G, и его планирование должно, в свою очередь, опять же правильным образом обусловить совершение конкретного действия F деятеля [4].
Добавленные,
хоть и неопределенные, условия, которые предполагают обусловливание «правильным
образом», должны работать с известными контрпримерами, которые касаются
девиантных причинных цепочек, возникающих либо в ходе практического рассуждения
деятеля, либо при реализации его намерений.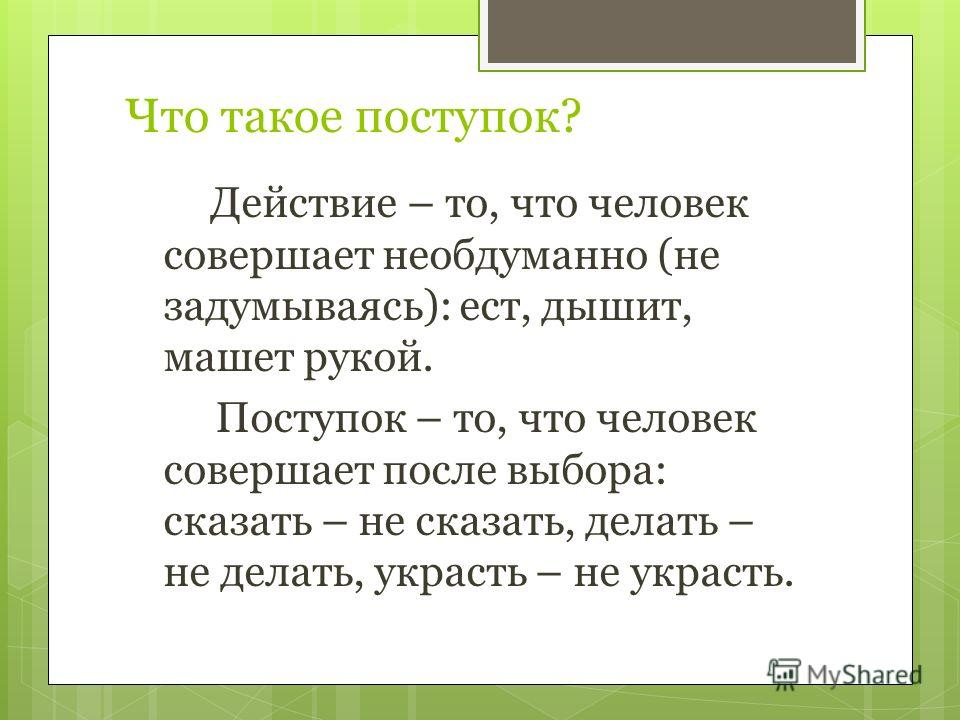 Приведем один известный пример
такого типа. Официант хочет испугать своего начальника, опрокинув несколько
стаканов рядом с ними, но неизбежная перспектива растревожить его
раздражительного работодателя настолько пугает его, что он невольно налетает на
шкаф и роняет стаканы. Несмотря на каузальную роль намерения официанта опрокинуть
стаканы, он делает это ненамеренно. В этом примере, в котором девиантная
причинность возникает как элемент физического поведения самого по себе, мы
сталкиваемся с тем, что называется «первичная причинная девиация». Когда
девиантная причинность возникает на переходе от поведения к его предполагаемым дальнейшим
результатам — как в рассмотренном выше примере с Бэтти и Джагхедом — девиация
называется «вторичной». Существовало немало попыток со стороны сторонников
причинного анализа намерения в действии («каузалистов», в терминах фон Вригта [von Wright 1971]) выяснить, какими могут быть
«правильные типы» причинности, однако в оценке их успешности нет согласия (см.
Приведем один известный пример
такого типа. Официант хочет испугать своего начальника, опрокинув несколько
стаканов рядом с ними, но неизбежная перспектива растревожить его
раздражительного работодателя настолько пугает его, что он невольно налетает на
шкаф и роняет стаканы. Несмотря на каузальную роль намерения официанта опрокинуть
стаканы, он делает это ненамеренно. В этом примере, в котором девиантная
причинность возникает как элемент физического поведения самого по себе, мы
сталкиваемся с тем, что называется «первичная причинная девиация». Когда
девиантная причинность возникает на переходе от поведения к его предполагаемым дальнейшим
результатам — как в рассмотренном выше примере с Бэтти и Джагхедом — девиация
называется «вторичной». Существовало немало попыток со стороны сторонников
причинного анализа намерения в действии («каузалистов», в терминах фон Вригта [von Wright 1971]) выяснить, какими могут быть
«правильные типы» причинности, однако в оценке их успешности нет согласия (см.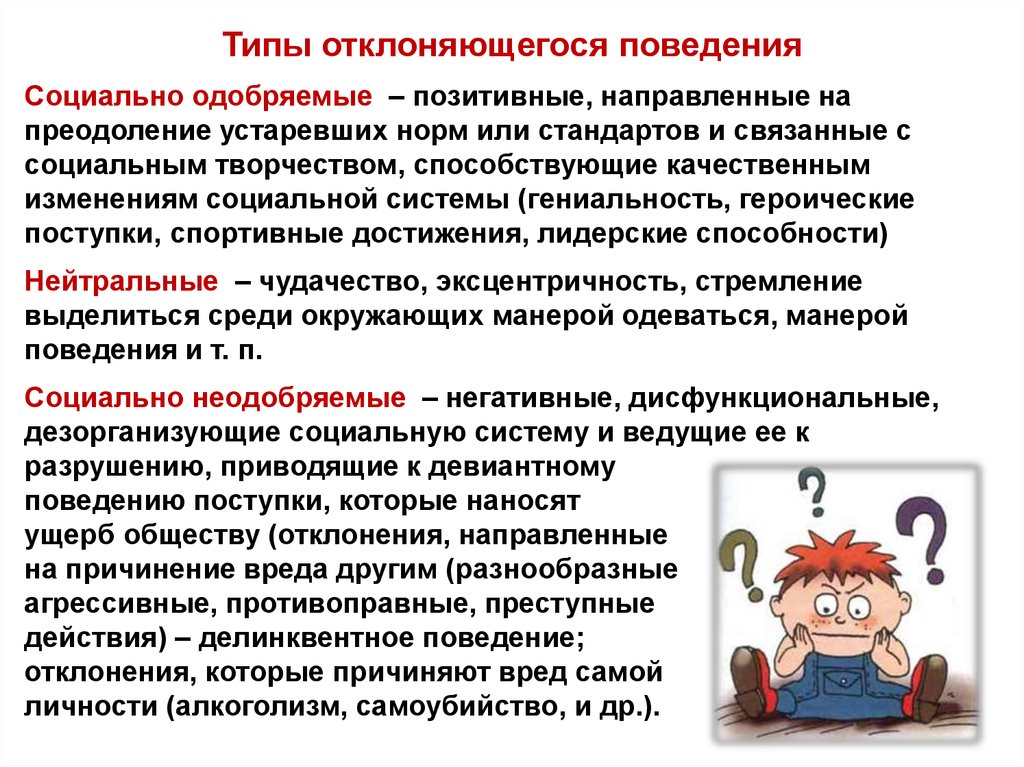 [Bishop 1989; Mele 1997]). Другие каузалисты, включая
самого Дэвидсона, утверждали, что кабинетный анализ данного вопроса невозможен
или не требуется. Тем не менее большинство каузалистов согласны с поздней
точкой зрения Дэвидсона, согласно которой понятие «обращенное к настоящему
намерение» необходимо для любой внушающей доверие причинной концепции намерения
в действии и намеренного действия. Именно обращенное к настоящему намерение
должно причинным образом направлять деятельность деятеля (см. также [Searle 1983]).
[Bishop 1989; Mele 1997]). Другие каузалисты, включая
самого Дэвидсона, утверждали, что кабинетный анализ данного вопроса невозможен
или не требуется. Тем не менее большинство каузалистов согласны с поздней
точкой зрения Дэвидсона, согласно которой понятие «обращенное к настоящему
намерение» необходимо для любой внушающей доверие причинной концепции намерения
в действии и намеренного действия. Именно обращенное к настоящему намерение
должно причинным образом направлять деятельность деятеля (см. также [Searle 1983]).
Упрощенная
версия данного подхода определяется тем, что Майкл Братман (Bratman) назвал «Простое представление».
Это утверждение, что из высказывания (6) [Деятель совершил G
намеренно] и, соответственно, высказывания (7) [Деятель совершил F
c намерением cделать G] следует,
что в момент действия деятель намеревается совершить
G. Конечно же, с точки зрения
каузалиста наиболее естественно понимать намеренное исполнение G
как такое действие, которое направляется обращенным к настоящему намерением,
содержанием которого является «Я собираюсь сделать G сейчас». Таким образом, естественный каузалистский подход предполагает Простое
представление, однако Братман [Bratman 1984,
1987] предложил хорошо известный пример, чтобы показать ложность данного
взгляда. Он описывает случай, в котором деятель хочет делать или φ, или Θ, не
имея никаких существенных предпочтений в пользу одной из альтернатив. Деятель
осведомлен, тем не менее, что в текущих обстоятельствах невозможно выполнить как φ, так и Θ, хотя при этом он может
попытаться совершить φ и попытаться совершить Θ одновременно. (Возможно, пытаясь
сделать φ, он задействует одну руку, а занимаясь Θ, — другую). Полагая, что
такая разнонаправленная стратегия в попытке достичь каждую из целей увеличивает
его шансы реализовать его действительную цель сделать либо φ, либо Θ, деятель
активно стремится к обеим подчиненным целям, пытаясь достичь одну или другую.
Данный пример может быть истолкован таким образом, что будет очевидна
рациональность субъекта, проявляющаяся в его действиях и отношениях, поскольку
он сознательно осуществляет разнонаправленную атаку своей дизъюнктивной цели
(см.
Таким образом, естественный каузалистский подход предполагает Простое
представление, однако Братман [Bratman 1984,
1987] предложил хорошо известный пример, чтобы показать ложность данного
взгляда. Он описывает случай, в котором деятель хочет делать или φ, или Θ, не
имея никаких существенных предпочтений в пользу одной из альтернатив. Деятель
осведомлен, тем не менее, что в текущих обстоятельствах невозможно выполнить как φ, так и Θ, хотя при этом он может
попытаться совершить φ и попытаться совершить Θ одновременно. (Возможно, пытаясь
сделать φ, он задействует одну руку, а занимаясь Θ, — другую). Полагая, что
такая разнонаправленная стратегия в попытке достичь каждую из целей увеличивает
его шансы реализовать его действительную цель сделать либо φ, либо Θ, деятель
активно стремится к обеим подчиненным целям, пытаясь достичь одну или другую.
Данный пример может быть истолкован таким образом, что будет очевидна
рациональность субъекта, проявляющаяся в его действиях и отношениях, поскольку
он сознательно осуществляет разнонаправленную атаку своей дизъюнктивной цели
(см.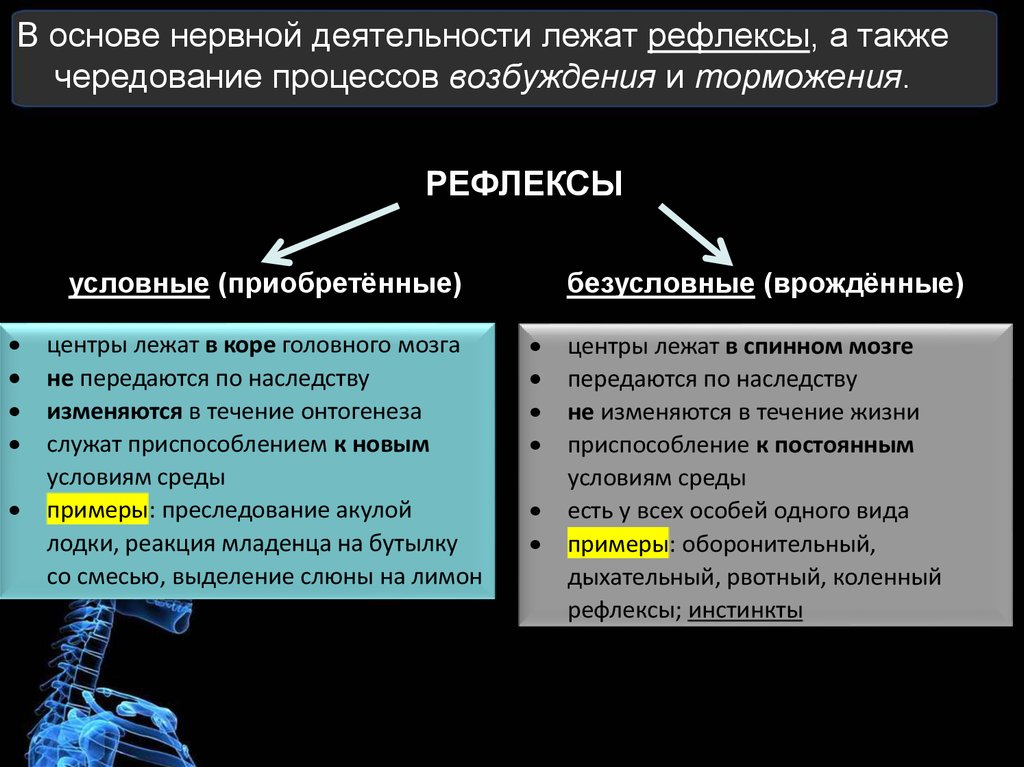 , однако, скептическую точку зрения на такое толкование в [Yaffe 2010]). Предположим, что деятель
на самом деле преуспел в совершении, скажем, φ, и это произошло благодаря
наличию у него умений и понимания, а не по счастливой случайности. Таким
образом, деятель сделал φ намеренно. Согласно Простому представлению, деятель
намеревался совершить φ. Хотя деятель также совершал нечто с намерением сделать
Θ, и если бы он преуспел в этом (без вмешательства простого везения), тогда он сделал
бы Θ намеренно. Из второго применения Простого представления к ситуации
следует, что деятель также намеревался делать Θ. И как иррационально
намереваться сделать φ, полагая в то же время, что это совершенно невозможно, так
же иррационально иметь намерение сделать φ и
намерение сделать Θ, понимая вместе с тем, что невозможно сделать эти две вещи
одновременно. Таким образом, деятеля можно критиковать за иррациональность
намерения сделать φ или Θ.
, однако, скептическую точку зрения на такое толкование в [Yaffe 2010]). Предположим, что деятель
на самом деле преуспел в совершении, скажем, φ, и это произошло благодаря
наличию у него умений и понимания, а не по счастливой случайности. Таким
образом, деятель сделал φ намеренно. Согласно Простому представлению, деятель
намеревался совершить φ. Хотя деятель также совершал нечто с намерением сделать
Θ, и если бы он преуспел в этом (без вмешательства простого везения), тогда он сделал
бы Θ намеренно. Из второго применения Простого представления к ситуации
следует, что деятель также намеревался делать Θ. И как иррационально
намереваться сделать φ, полагая в то же время, что это совершенно невозможно, так
же иррационально иметь намерение сделать φ и
намерение сделать Θ, понимая вместе с тем, что невозможно сделать эти две вещи
одновременно. Таким образом, деятеля можно критиковать за иррациональность
намерения сделать φ или Θ. Тем не менее в самом начале мы отметили, что он не
иррационален. Единственным выходом в данной ситуации будет препятствовать
выводу, что, пытаясь сделать φ и пытаясь сделать Θ в этих обстоятельствах,
деятель имеет иррациональную в данном контексте пару намерений, и отрицание
Простого представления — наиболее простой способ препятствовать такому выводу.
Тем не менее в самом начале мы отметили, что он не
иррационален. Единственным выходом в данной ситуации будет препятствовать
выводу, что, пытаясь сделать φ и пытаясь сделать Θ в этих обстоятельствах,
деятель имеет иррациональную в данном контексте пару намерений, и отрицание
Простого представления — наиболее простой способ препятствовать такому выводу.
Даже
если аргумент Братмана опровергает Простое представление (см. [McCann 1986; Knobe 2006]), то тем самым еще не
отвергается причинный анализ намеренного действия; не отвергается даже и такой анализ,
который принимает намерение за основную причину в каждом случае. Можно
предположить, что, к примеру, (i) в примере Братмана деятель просто
намеревается попытаться сделать φ и намеревается попытаться сделать Θ и что (ii) именно эти намерения направляют
действия деятеля [Mele
1997]. Анализ случая (7**) будет соответственно изменен. Однако проект поиска
рабочего и не содержащего ошибки порочного круга улучшения (7**) остается под
вопросом.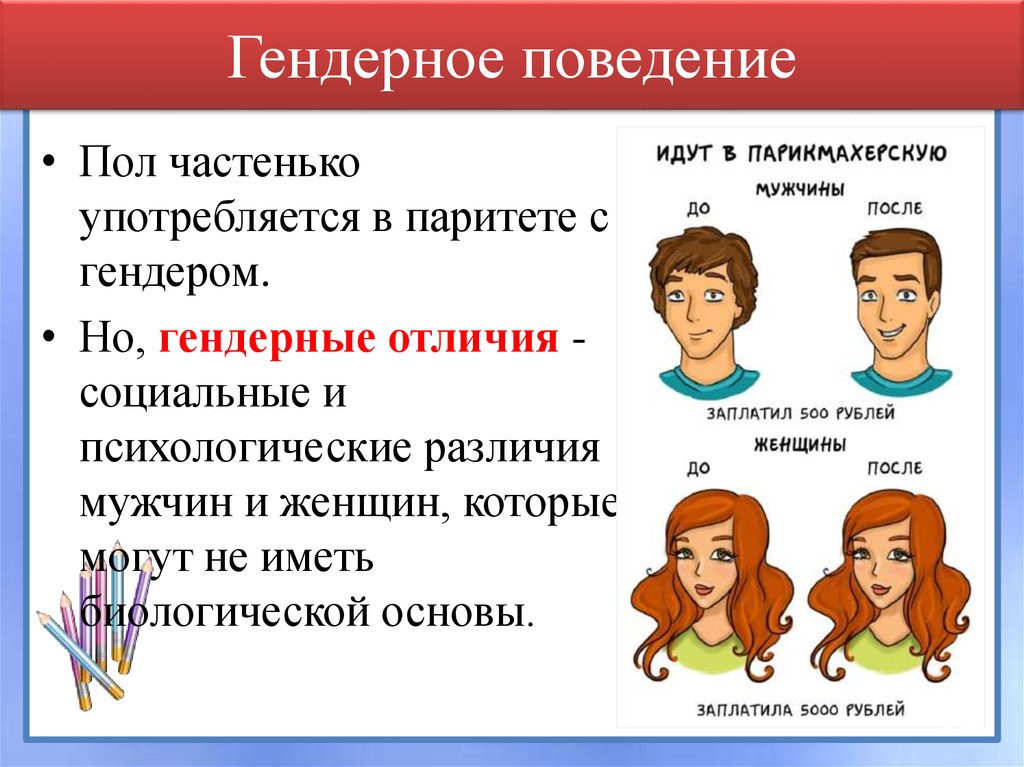
В понятийном отношении данная ситуация осложняется тем, что Братман утверждает, что (7) [Деятель совершил F c намерением cделать G] можно понимать двояко: и как
Деятель совершил F с целью сделать G,
и как
Деятель совершил F как часть плана, в который входило и намерение сделать G.
Утверждение
(8), упомянутое выше, — яркий пример того случая, когда требуется второе
прочтение. Из второго прочтения следует, что деятель намеревался совершить F,
и только из первого, в соответствии с аргументом Братмана, это не следует.
Поэтому Братман полагает, что нам необходимо различать намерение как цель
действий и намерение как отдельное состояние ориентированности на будущее
действие — состояние, являющееся результатом и далее само налагающее
ограничения на наши (строящих планы деятелей) практические стремления. Может
быть вполне рационально стремиться к достижению двух целей, о которых известно,
что их невозможно достичь одновременно, поскольку устремленность к обеим может
быть наилучшим способ достижения одной или другой.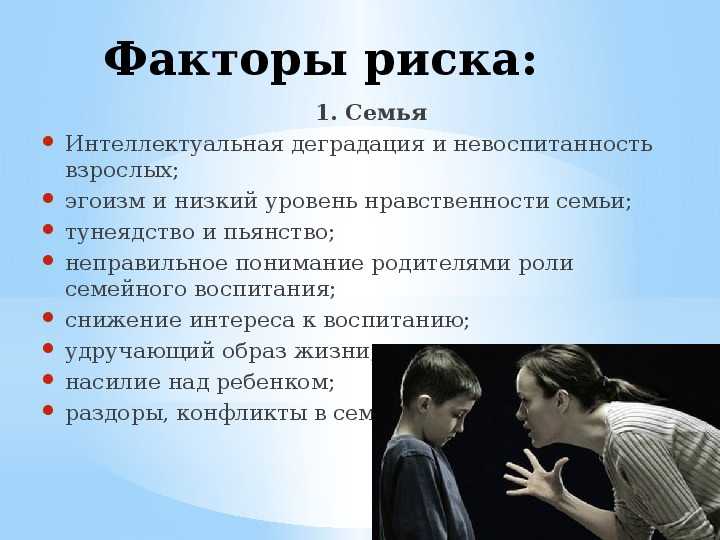 Однако неразумно планировать
достижение обеих целей, если известно, что они несовместимы, поскольку
намерения, которые фигурируют в рациональном планировании, должны составлять
одно целое, то есть должны соответствовать друг другу в рамках согласованного
большего плана. Пример Братмана и его различные критические суждения
стимулировали интерес к идее рациональности
намерений, измеряемой на основе убеждений и предположений деятеля. Подробнее мы
разберем эти вопросы в Разделе 4.
Однако неразумно планировать
достижение обеих целей, если известно, что они несовместимы, поскольку
намерения, которые фигурируют в рациональном планировании, должны составлять
одно целое, то есть должны соответствовать друг другу в рамках согласованного
большего плана. Пример Братмана и его различные критические суждения
стимулировали интерес к идее рациональности
намерений, измеряемой на основе убеждений и предположений деятеля. Подробнее мы
разберем эти вопросы в Разделе 4.
Ранее
упоминалось, что Дэвидсон отождествлял намерения, относящиеся к будущему, со
всеми суждениями о том, что деятель собирается делать сейчас или должен делать
в ближайшем будущем. Веллеман [Velleman 1989],
напротив, отождествляет намерение с произвольным убеждением, выводимым из
практической рефлексии, говорящей, что сейчас он выполняет определенное
действие (или что он выполнит его в будущем) и что это действие выполняется
(или будет выполнено) именно как следствие его принятия этого опирающегося само
на себя убеждения.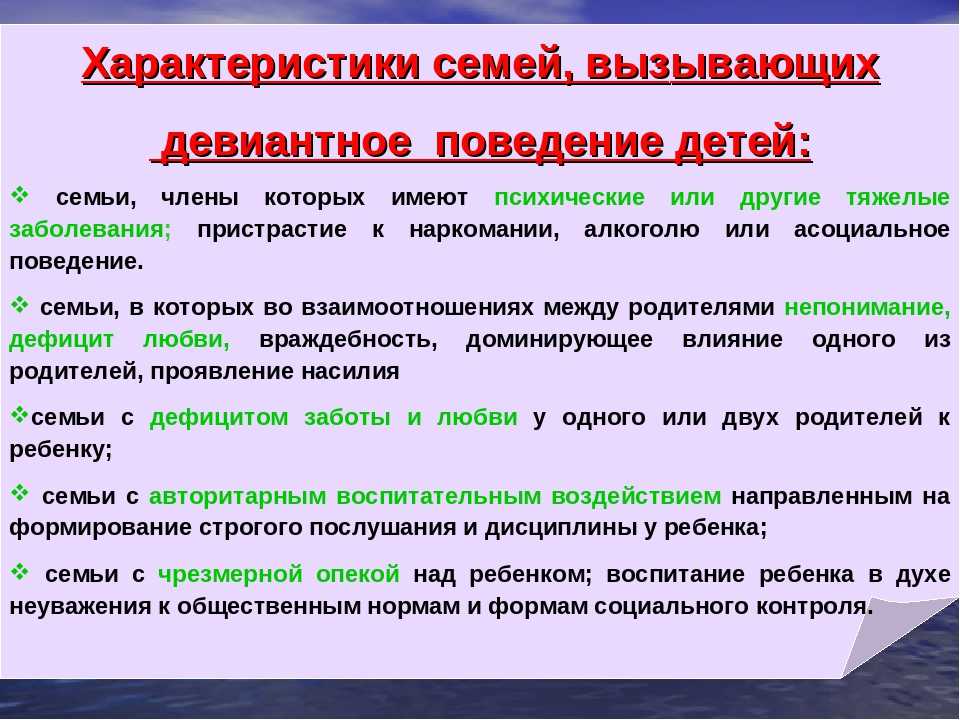 Пол Грайс [Grice
1971] отдавал
предпочтение сходной концепции, в которой намерение заключалось в желании
деятеля достичь определенных результатов вместе с убеждением, что они будут
достигнуты как результат наличия данного желания. Гектор-Нери Кастанеда [Castaneda 1975], испытавший влияние Селларса [Sellars 1966], утверждал, что намерения
представляют собой особый вид внутренних команд, которые он назвал «практициями».
Братман [Bratman 1987]
разработал функционалистский подход в отношении намерений: существует такое
психологическое состояние, которое играет определенную каузальную роль в нашем
практическом мышлении, в нашем планировании будущего и выполнении действий.
Данная каузальная роль, как он утверждает, отлична от определенных каузальных или
функциональных ролей, которые играют ожидания, желания, надежды и другие
отношения, связанные с будущими действиями деятеля.
Пол Грайс [Grice
1971] отдавал
предпочтение сходной концепции, в которой намерение заключалось в желании
деятеля достичь определенных результатов вместе с убеждением, что они будут
достигнуты как результат наличия данного желания. Гектор-Нери Кастанеда [Castaneda 1975], испытавший влияние Селларса [Sellars 1966], утверждал, что намерения
представляют собой особый вид внутренних команд, которые он назвал «практициями».
Братман [Bratman 1987]
разработал функционалистский подход в отношении намерений: существует такое
психологическое состояние, которое играет определенную каузальную роль в нашем
практическом мышлении, в нашем планировании будущего и выполнении действий.
Данная каузальная роль, как он утверждает, отлична от определенных каузальных или
функциональных ролей, которые играют ожидания, желания, надежды и другие
отношения, связанные с будущими действиями деятеля.
Представления
Кастанеды о намерении своеобразны, и им стоит уделить больше внимания, чем они
получали в последнее время. Например, он придерживается представления о
структурном параллелизме намерений и убеждений в определенном ключевом аспекте.
И те и другие содержат одобрение определенного типа структурированного
содержания. Когда личность полагает, что Р,
она одобряет или принимает пропозицию, что Р;
когда личность намеревается сделать F, она одобряет или принимает практицию
“Я буду делать F”. Проще говоря, практиция приписывает
свойство действия F деятелю, но это приписывание
включает в себя особый тип предицирования, который содержит определенный
императивный посыл. Приказы, команды и требования также имеют в качестве
содержания практиции, но, как правило, они представляют собой предписания,
обращенные к другим. Они, например, выражают содержание «Ты должен сделать F».
Намерение, напротив, обращено само на себя, но дело не только в том, что обозначенные
практиции обращены на себя в этом смысле; при наличии намерения деятель
воспринимает себя определенно в рамках концепции «первого лица».
Например, он придерживается представления о
структурном параллелизме намерений и убеждений в определенном ключевом аспекте.
И те и другие содержат одобрение определенного типа структурированного
содержания. Когда личность полагает, что Р,
она одобряет или принимает пропозицию, что Р;
когда личность намеревается сделать F, она одобряет или принимает практицию
“Я буду делать F”. Проще говоря, практиция приписывает
свойство действия F деятелю, но это приписывание
включает в себя особый тип предицирования, который содержит определенный
императивный посыл. Приказы, команды и требования также имеют в качестве
содержания практиции, но, как правило, они представляют собой предписания,
обращенные к другим. Они, например, выражают содержание «Ты должен сделать F».
Намерение, напротив, обращено само на себя, но дело не только в том, что обозначенные
практиции обращены на себя в этом смысле; при наличии намерения деятель
воспринимает себя определенно в рамках концепции «первого лица».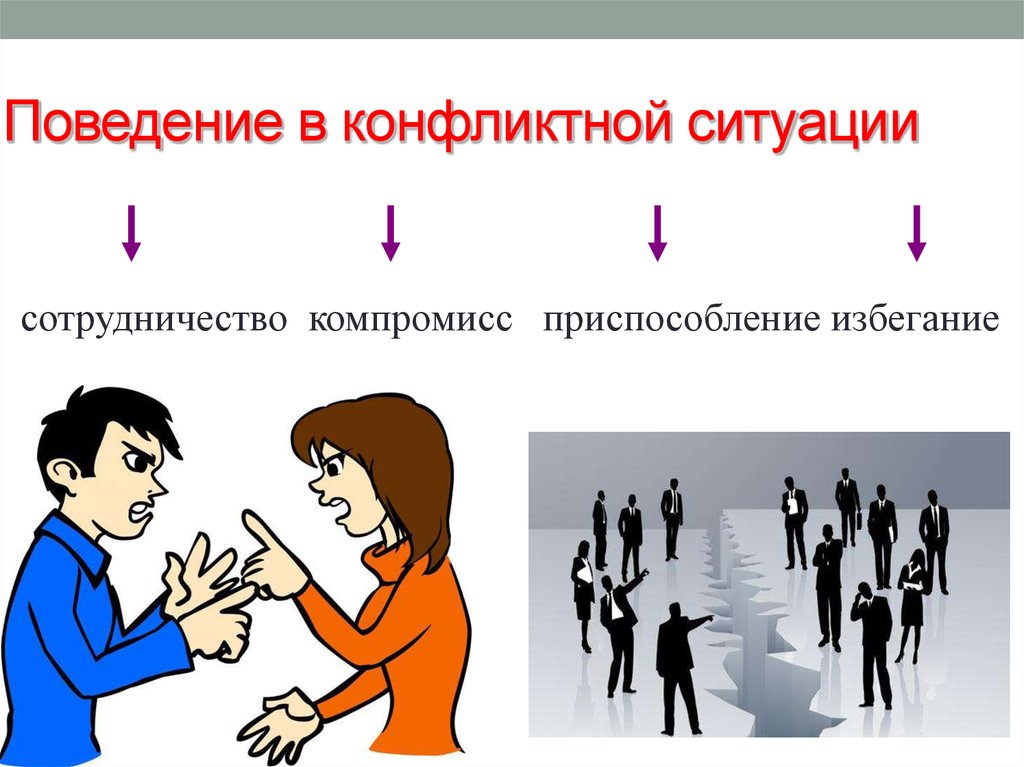 Другие
философы, к примеру Хэйр [Hare
1971] и Кенни [Kenny 1973] уподобляли намерения самопредписывающим командам. В
то время как другие, в особенности Аннет Баир [Bair 1970], стремились сформировать логические
объекты намерения как непропозициональные и как репрезентированные в форме неизменяемого
инфинитива. Варианты обеих этих идей были более тщательно и подробно
разработаны в нескольких главных сочинениях Кастанеды, посвященных действию. Он
стремился создать разработанную семантику для основных оборотов речи,
фигурирующих в практическом мышлении и аргументации. Сюда входят приписывания
убеждения и намерения, но также и разнообразные утверждения долженствования, в
которых становится явным нормативный характер практической рефлексии. Главной
целью его исследований было выявление структуры импликативных отношений между
пропозициями и практициями этих различных видов и посредством этого — разработка
понятийных оснований деонтической логики (богатое толкование Кастанеды о
действии см.
Другие
философы, к примеру Хэйр [Hare
1971] и Кенни [Kenny 1973] уподобляли намерения самопредписывающим командам. В
то время как другие, в особенности Аннет Баир [Bair 1970], стремились сформировать логические
объекты намерения как непропозициональные и как репрезентированные в форме неизменяемого
инфинитива. Варианты обеих этих идей были более тщательно и подробно
разработаны в нескольких главных сочинениях Кастанеды, посвященных действию. Он
стремился создать разработанную семантику для основных оборотов речи,
фигурирующих в практическом мышлении и аргументации. Сюда входят приписывания
убеждения и намерения, но также и разнообразные утверждения долженствования, в
которых становится явным нормативный характер практической рефлексии. Главной
целью его исследований было выявление структуры импликативных отношений между
пропозициями и практициями этих различных видов и посредством этого — разработка
понятийных оснований деонтической логики (богатое толкование Кастанеды о
действии см. в [Bratman
1999, essay
12]).
в [Bratman
1999, essay
12]).
Индивиды
не всегда действуют в одиночку. Они могут иметь совместные намерения и
действовать сообща. В данный момент наблюдается рост интереса в философии
действия к тому, как следует понимать совместные намерение и действие. Основной
вопрос связан с тем, следует ли давать совместным намерениям редуктивное
объяснение в терминах индивидуальной деятельности (см. [Searle 1990] на предмет интересной ранней
дискуссии по этому поводу). Майкл Братман [Bratman 1992] выдвигает важное
предположение редуктивного характера, в котором используется его концепция
намерений. Ключевое условие его понимания совместной кооперативной деятельности
заключается в том, что каждый участник индивидуально планирует деятельность и
выполняет ее в соответствии с планами и составляющими их элементами, которые не
конфликтуют с планами других участников. Однако Маргарет Гилберт [Gilbert 2000] выдвинула возражение,
согласно которому редуктивные подходы не придают значения совместным
обязательствам участников деятельности, являющимся существенными для совместной
деятельности: каждый участник имеет обязательства перед другими выполнять свою
часть деятельности, односторонний отказ от него вызывает нарушение этого
обязательства. Гилберт утверждает, что удовлетворительная теория этих взаимных
обязательств предполагает отказ от редуктивных индивидуалистских подходов к
пониманию совместной деятельности и постулирует простое понятие общего долга
(см. также [Tuomela
2003]).
Гилберт утверждает, что удовлетворительная теория этих взаимных
обязательств предполагает отказ от редуктивных индивидуалистских подходов к
пониманию совместной деятельности и постулирует простое понятие общего долга
(см. также [Tuomela
2003]).
Рот [Roth 2004] принимает во внимание
взаимные обязательства, выявленные Гилберт, и предлагает подход, который
является нередуктивным, но тем не менее приводит к появлению концепции
намерения и обязательства, в некоторых отношениях более благоприятной для Братмана.
Неясно до конца, хочет ли Гилберт выразить свою приверженность онтологическому
тезису, согласно которому существуют групповые деятели, отличные от
составляющих их индивидов-деятелей, постулируя простое понятие общих
обязательств. Петит [Pettit
2003] отстаивает именно
такой тезис. Он утверждает, что рациональное групповое действие всегда
предполагает «коллективизацию разума», при которой участники действуют таким
образом, который с индивидуальной точки зрения участников не является
рационально рекомендованным.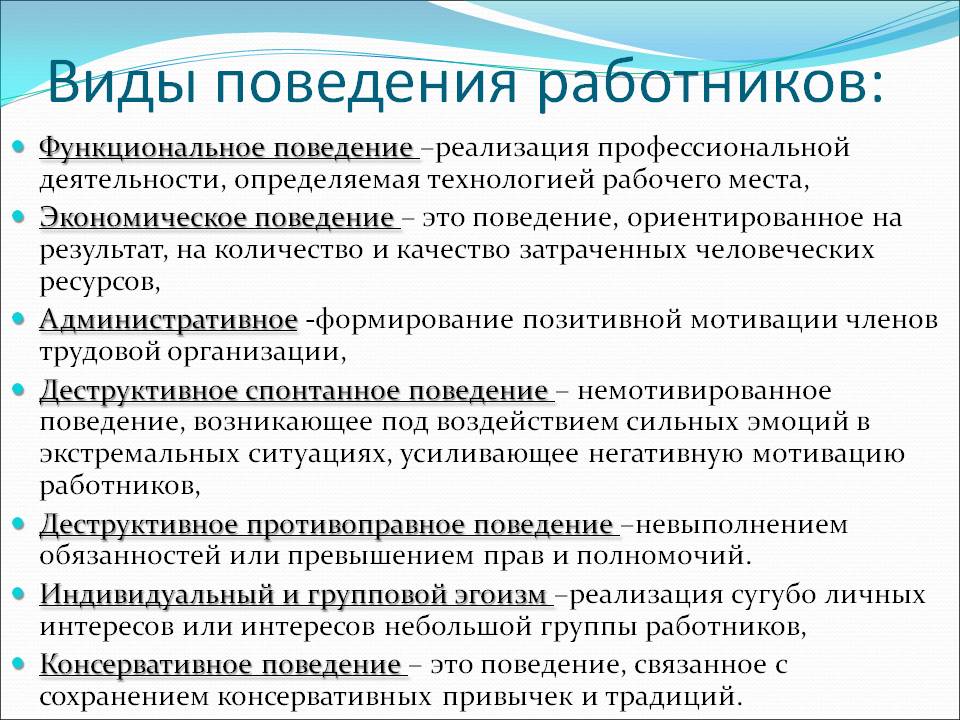 Появляющийся в результате разрыв между
индивидуальной и коллективной перспективами предполагает, по его мнению, что
группы могут быть рациональными, интенциональными деятелями, отличными от
составляющих их членов.
Появляющийся в результате разрыв между
индивидуальной и коллективной перспективами предполагает, по его мнению, что
группы могут быть рациональными, интенциональными деятелями, отличными от
составляющих их членов.
На
протяжении многих лет наиболее обсуждаемая тема в философии действия касалась
объяснения намеренных действий с точки зрения мотивов деятеля в отношении
действия. Как отмечалось ранее, Дэвидсон и другие теоретики действия отстаивали
позицию, согласно которой объяснения на основе мотивов — это причинные
объяснения: объяснения, ссылающиеся на желания, намерения и представления о
средствах и цели деятеля как на причины действия (см. [Goldman 1970]). Данные каузалисты в
отношении действия выступали против неовитгенштейнианской точки зрения, утверждающей
обратное. В ретроспективе ясно, что многие термины, в которых велись эти дебаты,
были неудачными. Во-первых, некаузалистская позиция главным образом опиралась
на негативные аргументы, которые имели целью показать, что по концептуальным причинам
мотивирующие соображения не могут быть причинами действия. Дэвидсон сделал
немало, чтобы опровергнуть эти аргументы. Более того, непросто было
сформировать достаточно ясное понимание того, какого типа непричинное
объяснение неовитгенштейнианцы имели в виду. Чарльз Тейлор завершил свою книгу
«Объяснение действия» [Taylor 1964] утверждением, что объяснения
на основе мотивов укоренены в своего рода «некаузальном осуществлении», но ни
Тейлор, ни кто-либо другой не объяснили, как какое бы то ни было осуществление
события может оказаться некаузальным. Во-вторых, условия проведения дебатов не
становились лучше оттого, что обычное понятие «причина» использовалось
нестрогим образом. Когда говорится, что у Джона есть причина, чтобы обидеться
на грубое поведение Джейн, то «причина» в этой конструкции означает просто
«мотив», а утверждение «У Джона была причина отомстить за свой гнев» может
означать не более чем «Гнев Джона был в ряду других причин, по которым он хотел
отомстить». Если так, то, вероятно, никто не будет отрицать, что мотивы в некотором смысле являются причинами.
Дэвидсон сделал
немало, чтобы опровергнуть эти аргументы. Более того, непросто было
сформировать достаточно ясное понимание того, какого типа непричинное
объяснение неовитгенштейнианцы имели в виду. Чарльз Тейлор завершил свою книгу
«Объяснение действия» [Taylor 1964] утверждением, что объяснения
на основе мотивов укоренены в своего рода «некаузальном осуществлении», но ни
Тейлор, ни кто-либо другой не объяснили, как какое бы то ни было осуществление
события может оказаться некаузальным. Во-вторых, условия проведения дебатов не
становились лучше оттого, что обычное понятие «причина» использовалось
нестрогим образом. Когда говорится, что у Джона есть причина, чтобы обидеться
на грубое поведение Джейн, то «причина» в этой конструкции означает просто
«мотив», а утверждение «У Джона была причина отомстить за свой гнев» может
означать не более чем «Гнев Джона был в ряду других причин, по которым он хотел
отомстить». Если так, то, вероятно, никто не будет отрицать, что мотивы в некотором смысле являются причинами.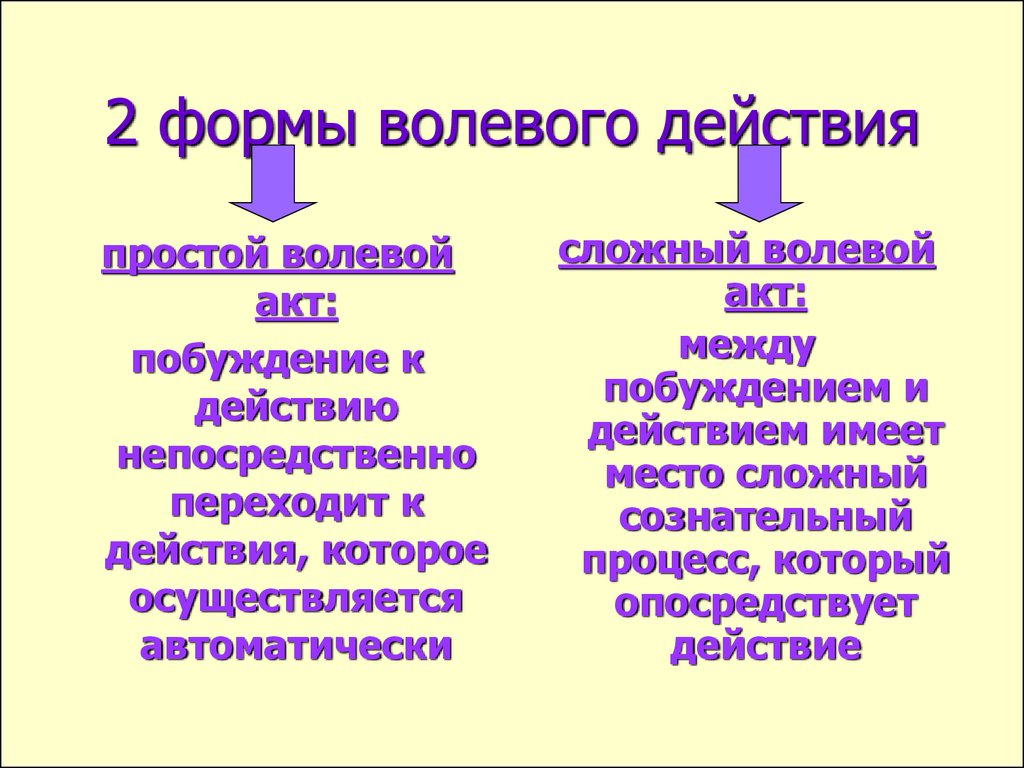 В
соответствующей литературе было общим местом прибегать к ограничительному
утверждению, что мотивы не являются «действующими», или «юмовскими», или
«производящими» причинами действия. К сожалению, привнесение этих ограничений
не добавляло ясности.
В
соответствующей литературе было общим местом прибегать к ограничительному
утверждению, что мотивы не являются «действующими», или «юмовскими», или
«производящими» причинами действия. К сожалению, привнесение этих ограничений
не добавляло ясности.
Джордж Уилсон [Wilson 1989] и Карл Жине [Ginet 1990] следуют Энском, утверждая, что объяснения исходя из мотивов основываются исключительно на намерениях деятеля в действии. Оба автора утверждают, что приписывание намерения действию имеет силу пропозиции, сообщающей об отдельном акте F, что деятель намеревался совершить его, чтобы сделать G (посредством F), и они утверждают, что такие de re пропозиции обосновывают некаузальное объяснение на основе мотивов того, почему деятель выполнил F в обозначенном случае. Уилсон следует дальше Жине, утверждая, что заявления о намерении в действии имеют следующее значение:
(9) Действие F деятеля было направлено им на [цель] осуществления G,
В такой
аналитичной форме телеологический характер приписывания намерения действию
становится очевидным.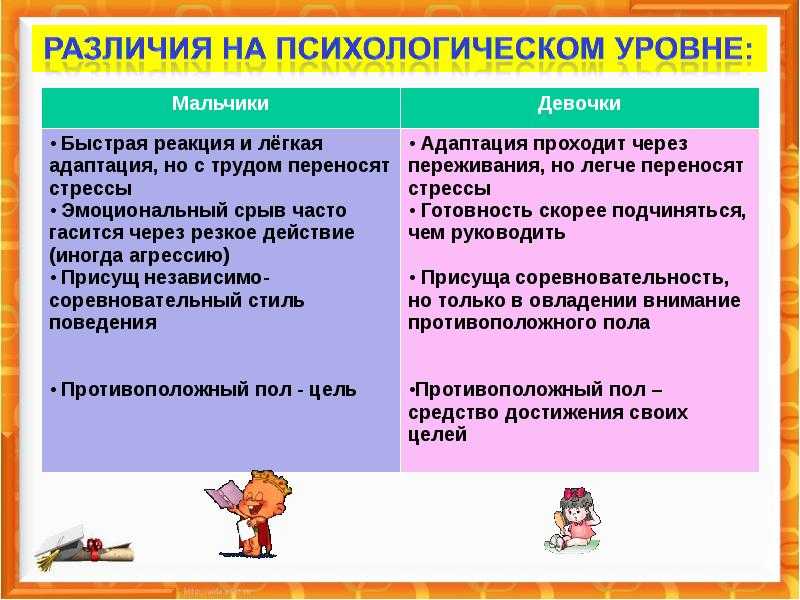 Принимая во внимание целенаправленность действия, можно
дать сходное телеологическое объяснение соответствующего поведения посредством
упоминания цели в поведении деятеля, актуальной в тот момент времени, и это та
информация, которую (9) передает. Или в качестве альтернативы, когда говорящий
объясняет, что
Принимая во внимание целенаправленность действия, можно
дать сходное телеологическое объяснение соответствующего поведения посредством
упоминания цели в поведении деятеля, актуальной в тот момент времени, и это та
информация, которую (9) передает. Или в качестве альтернативы, когда говорящий
объясняет, что
(10) Деятель совершил F, поскольку хотел совершить G,
на желание деятеля совершить G ссылаются в объяснении не в качестве причины выполнения F, но скорее в качестве обозначения желаемой цели, ради которой действие F было совершено.
Большинство
каузалистов согласится, что объяснения действия на основе мотивов являются
телеологическими, но они будут дискутировать на предмет того, являются ли
телеологические объяснения с точки зрения целей — другими словами, целевые
объяснения — сами по себе анализируемыми в качестве причинных объяснений, в
которых первичный(-ые) мотив(-ы) деятеля к выполнению F
выделяются как руководящие причины действия F.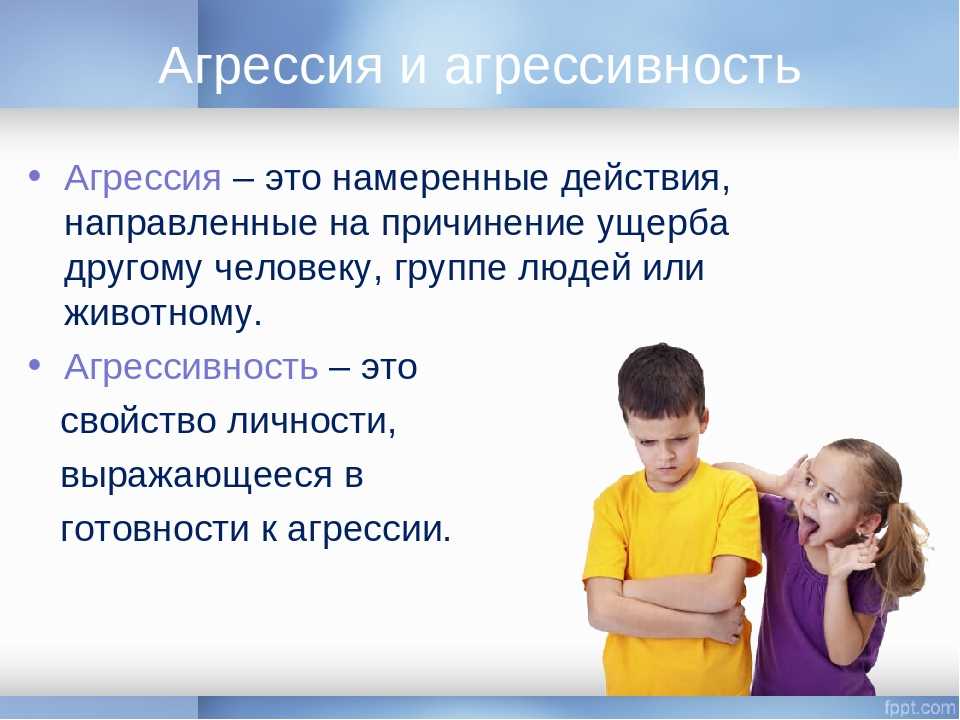 Вследствие этого, как существует каузалистский анализ того, что значит
совершать что-либо намеренно, так есть и аналогичный анализ телеологических
объяснений целенаправленного, и более узко — намеренного действия. Каузалисты в
отношении телеологического объяснения утверждают, что цель в поведении деятеля
является просто целью, которой деятель обладает в определенный момент времени,
которая обусловливает поведение и, конечно же, которая обусловливает его
правильным образом (за критикой обращайтесь к [Sehon 1998, 2005]).
Вследствие этого, как существует каузалистский анализ того, что значит
совершать что-либо намеренно, так есть и аналогичный анализ телеологических
объяснений целенаправленного, и более узко — намеренного действия. Каузалисты в
отношении телеологического объяснения утверждают, что цель в поведении деятеля
является просто целью, которой деятель обладает в определенный момент времени,
которая обусловливает поведение и, конечно же, которая обусловливает его
правильным образом (за критикой обращайтесь к [Sehon 1998, 2005]).
Нелегко
понять, какую оценку дать этим разногласиям. Утверждение, что целевые
объяснения редуцируются или не редуцируются к соответствующим
аналогичным причинным объяснениям, является удивительным образом эфемерным.
Во-первых, совершенно неясно, что значит редуцирование одной формы объяснения к
другой. Кроме того, как обозначалось выше, Дэвидсон настаивал на том, что
невозможно дать ясное, редуктивное объяснение того, каким должно быть
«правильное обусловливание», и что ни одно из них не необходимо.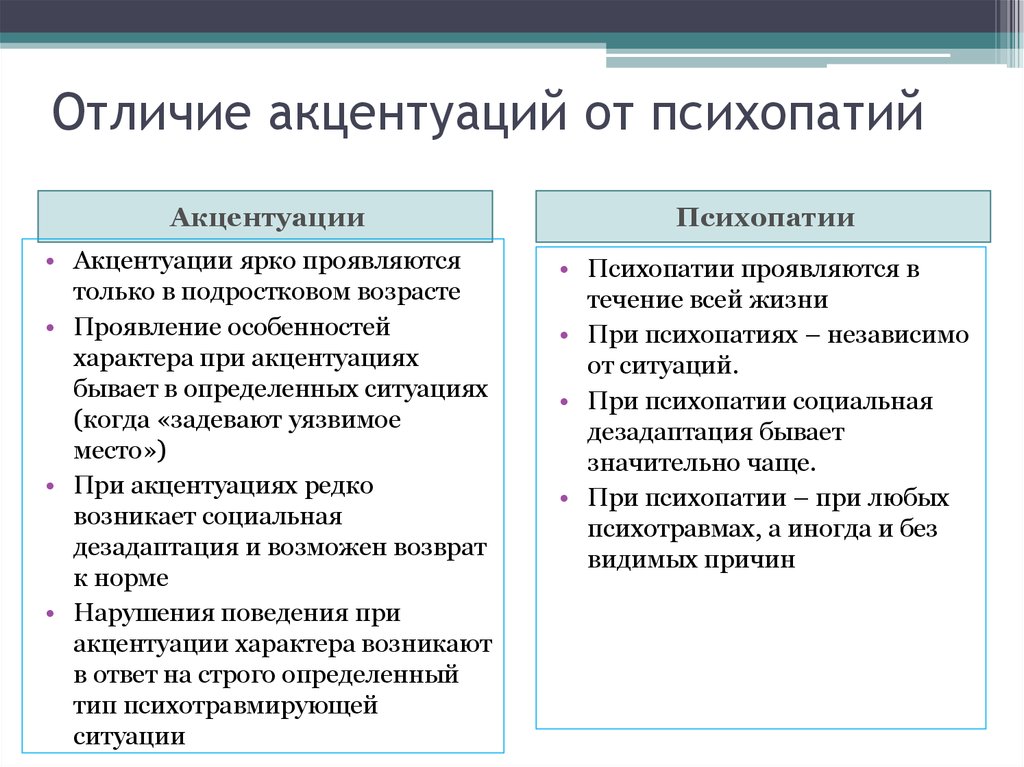 Естественно,
он может быть прав в отношении этих вопросов, однако другие чувствовали, что
каузализм в отношении объяснений на основе мотивов противозаконно защищен
свойственной понятию «причинность правильного типа» неопределенностью значения.
Некоторые каузалисты, в остальном соглашавшиеся с Дэвидсоном,
принимали
требование к созданию более разработанного и ясного подхода, и некоторые из
предложенных подходов были невероятно сложными. Без наличия согласия в отношении
понятия «причины» самого по себе, перспектива завершения дебатов не
представляется оптимистичной. В конечно итоге Абрахам Рот [Roth 2000] указал, что объяснения на
основе мотивов могут быть нередуктивно телеологическими и в то же время отсылать к первичным мотивам как действующим
причинам. Можно утверждать, что схожие объяснения, обладающие и каузальной, и
телеологической силой, используются в специфических гомеостатических (строящихся
на принципе обратной связи) объяснениях определенных биологических явлений.
Естественно,
он может быть прав в отношении этих вопросов, однако другие чувствовали, что
каузализм в отношении объяснений на основе мотивов противозаконно защищен
свойственной понятию «причинность правильного типа» неопределенностью значения.
Некоторые каузалисты, в остальном соглашавшиеся с Дэвидсоном,
принимали
требование к созданию более разработанного и ясного подхода, и некоторые из
предложенных подходов были невероятно сложными. Без наличия согласия в отношении
понятия «причины» самого по себе, перспектива завершения дебатов не
представляется оптимистичной. В конечно итоге Абрахам Рот [Roth 2000] указал, что объяснения на
основе мотивов могут быть нередуктивно телеологическими и в то же время отсылать к первичным мотивам как действующим
причинам. Можно утверждать, что схожие объяснения, обладающие и каузальной, и
телеологической силой, используются в специфических гомеостатических (строящихся
на принципе обратной связи) объяснениях определенных биологических явлений. Когда
мы даем объяснение тому, что организм совершил V, потому что нуждался в W,
мы вполне можем иметь в виду и то, что целью действия V
было удовлетворение потребности в W, и то, что нужда в W
привела к действию V.
Когда
мы даем объяснение тому, что организм совершил V, потому что нуждался в W,
мы вполне можем иметь в виду и то, что целью действия V
было удовлетворение потребности в W, и то, что нужда в W
привела к действию V.
В
недавней статье Брайан МакЛафлин [McLaughlin 2012] cоглашается с тем, что объяснения на
основе мотивов являются телеологическими, разъясняющими действие в терминах
стремления, задачи или цели, ради которой оно совершается. Он также признает,
что данные целевые объяснения не являются разновидностью причинного объяснения.
Однако он отрицает точку зрения, согласно которой эти же объяснения основаны на
утверждениях, касающихся намерений деятеля к действию, и поэтому оставляет в
стороне вопросы о цели, намерении и их роли в рационализациях, обозначенные
выше. МакЛафлин занимает следующую позицию: если (i) деятель совершил F с целью G, тогда (ii) посредством F
деятель пытался совершить G. Утверждать (i) — означает давать объяснение
действию (F) c точки зрения попытки
деятеля совершить G. Кроме того, если (i) истинно, тогда действие F тождественно или является составной
частью попытки деятеля совершить G. Таким образом, в утверждении (ii)
предлагается то, что подразумевает на самом деле простое переописание действия F. Допуская правило Юма, согласно
которому если событие E вызывает событие E’, тогда E и Е’ должны быть
различны, МакЛафлин утверждает, что целевые объяснения действий конститутивны,
а не каузальны по своей сути.
Утверждать (i) — означает давать объяснение
действию (F) c точки зрения попытки
деятеля совершить G. Кроме того, если (i) истинно, тогда действие F тождественно или является составной
частью попытки деятеля совершить G. Таким образом, в утверждении (ii)
предлагается то, что подразумевает на самом деле простое переописание действия F. Допуская правило Юма, согласно
которому если событие E вызывает событие E’, тогда E и Е’ должны быть
различны, МакЛафлин утверждает, что целевые объяснения действий конститутивны,
а не каузальны по своей сути.
Майкл
Томпсон отстаивал позицию, которая существенным образом отличается от известных
постдэвидсонианских воззрений на объяснение действия. Он отрицает как неверно
понятый спор причинных и непричинных подходов к объяснению действия. Он не
отрицает, что иногда действия объясняются посредством отсылки к желаниям, намерениям
и попыткам, однако полагает, что природа этих объяснений совершенно неверно
понимается в стандартной теории.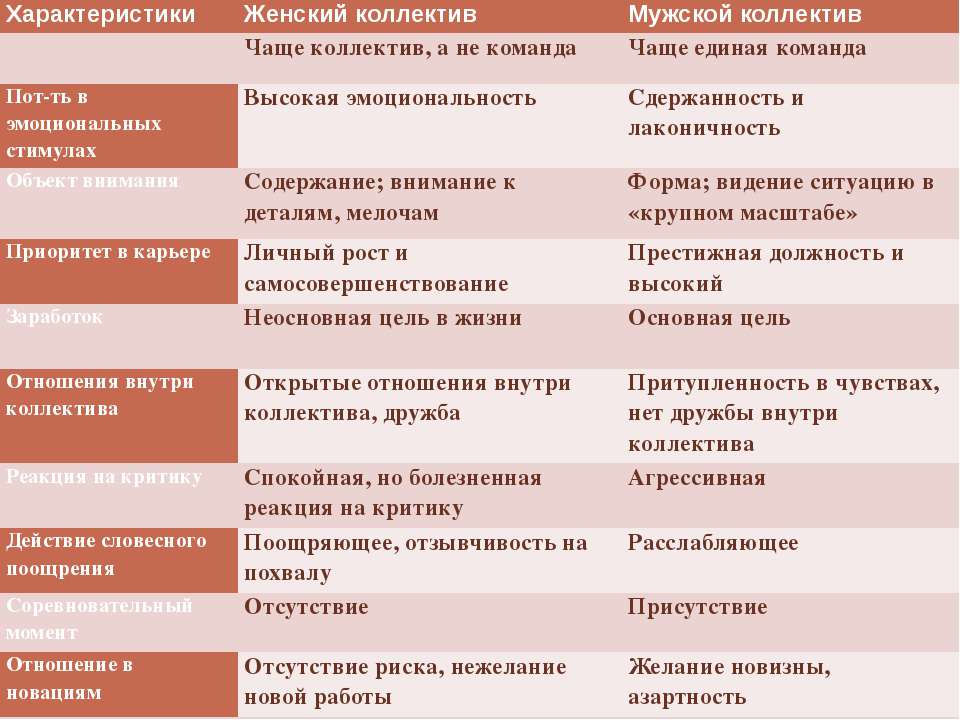 Он полагает, что желания, намерения и попытки
не являются «пропозициональными установками», как они обычно трактуются, а
«изысканные» объяснения, отсылающие к ним, вторичны и существуют паразитарным
образом на том, что зовется «наивными объяснениями действия». Наивные
объяснения даются в утверждениях, в которых одно действие объясняется путем
упоминания другого, например: «Я разбиваю яйцо, поскольку делаю омлет». Сильной
стороной таких объяснений является то, что объясняемое (разбивание яйца)
представляется частью более общего разворачиваемого действия или деятельности
(объясняющего: приготовление омлета). Сходным образом «Я разбиваю яйцо,
поскольку пытаюсь сделать омлет» — тут объясняющее (попытка) само по себе при
определенном описании является действием, которое включает в себя разбивание
яйца. Схожие формы, такие как «А
делает F, потому что он желает
совершить G» и «А делает F, потому что он намеревается
совершить G», как считается, представляют
собой примеры, которые также подпадают под «то же категориальное пространство»,
что и наивные объяснения действия.
Он полагает, что желания, намерения и попытки
не являются «пропозициональными установками», как они обычно трактуются, а
«изысканные» объяснения, отсылающие к ним, вторичны и существуют паразитарным
образом на том, что зовется «наивными объяснениями действия». Наивные
объяснения даются в утверждениях, в которых одно действие объясняется путем
упоминания другого, например: «Я разбиваю яйцо, поскольку делаю омлет». Сильной
стороной таких объяснений является то, что объясняемое (разбивание яйца)
представляется частью более общего разворачиваемого действия или деятельности
(объясняющего: приготовление омлета). Сходным образом «Я разбиваю яйцо,
поскольку пытаюсь сделать омлет» — тут объясняющее (попытка) само по себе при
определенном описании является действием, которое включает в себя разбивание
яйца. Схожие формы, такие как «А
делает F, потому что он желает
совершить G» и «А делает F, потому что он намеревается
совершить G», как считается, представляют
собой примеры, которые также подпадают под «то же категориальное пространство»,
что и наивные объяснения действия. В целом позиция Томпсона нова, сложна и
тщательно проработана. Местами она неясна, и, конечно же, ее непросто выразить
в кратком обзоре. Тем не менее это современный подход, к которому недавно
возрос интерес и который получил поддержку.
В целом позиция Томпсона нова, сложна и
тщательно проработана. Местами она неясна, и, конечно же, ее непросто выразить
в кратком обзоре. Тем не менее это современный подход, к которому недавно
возрос интерес и который получил поддержку.
Один из основных аргументов, демонстрирующих, что
объяснение действия на основе мотивов не может быть причинным, следующий. Если
бы объясняющие мотивы деятеля R были
причинами его действия A, тогда
должен был бы существовать общий причинный закон, который бы связывал
номологически психологические факторы в R
с типом действия A, которому они дают
рациональное объяснение. Однако утверждалось, что не существует таких
психологических законов; не существует строгих законов и сочетающихся условий,
которые гарантировали бы, что соответствующее действие будет неизменным
продуктом совместного присутствия склонностей, убеждений и других
психологических состояний.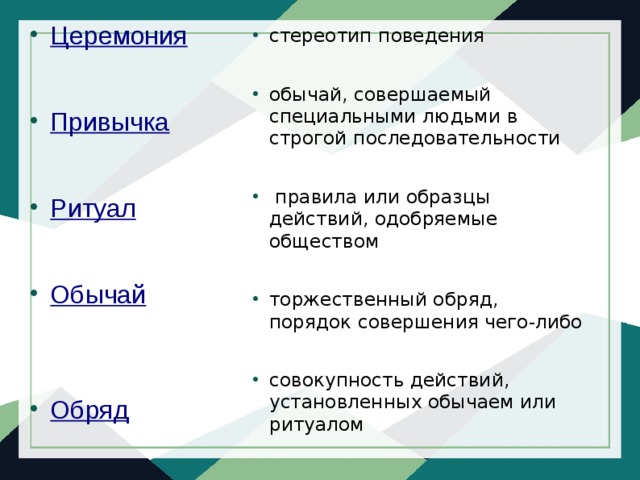 Поэтому мотивы не могут быть причинами. В «Actions, Reasons, and Causes»
Дэвидсон в первую очередь отмечал, что тезис, что не существует законов от-мотива-к-действию,
занимает двойственное положение между сильным и слабым прочтением, и он
замечал, что для некаузального заключения требуется именно сильное прочтение. В
слабой версии говорится, что не существует таких законов от-мотива-к-действию,
в которых антецедент представлен в терминах «убеждения/желания/намерения» словаря
психологии здравого смысла, а консеквент формулируется в терминах
целенаправленного и намеренного движения. Дэвидсон соглашался, что тезис,
согласно данному прочтению, корректен, и с тех самых пор он принимал его. В
сильной версии утверждается, что не существует законов от-мотива-к-действию в
каком-либо виде, включая законы, в которых психологические состояния и события
заново описываются в исключительно физических терминах, а действия описываются
как просто движения.
Поэтому мотивы не могут быть причинами. В «Actions, Reasons, and Causes»
Дэвидсон в первую очередь отмечал, что тезис, что не существует законов от-мотива-к-действию,
занимает двойственное положение между сильным и слабым прочтением, и он
замечал, что для некаузального заключения требуется именно сильное прочтение. В
слабой версии говорится, что не существует таких законов от-мотива-к-действию,
в которых антецедент представлен в терминах «убеждения/желания/намерения» словаря
психологии здравого смысла, а консеквент формулируется в терминах
целенаправленного и намеренного движения. Дэвидсон соглашался, что тезис,
согласно данному прочтению, корректен, и с тех самых пор он принимал его. В
сильной версии утверждается, что не существует законов от-мотива-к-действию в
каком-либо виде, включая законы, в которых психологические состояния и события
заново описываются в исключительно физических терминах, а действия описываются
как просто движения. Дэвидсон подтверждает, что существуют законы этого второго вида, независимо от того, выявили
мы их или нет [5].
Дэвидсон подтверждает, что существуют законы этого второго вида, независимо от того, выявили
мы их или нет [5].
Многим
казалось, что данная позиция Дэвидсона (как каузалиста) ведет к большим
проблемам. Мы не просто полагаем, что состояния обладания определенными склонностями
и соответствующими убеждениями о средствах и цели являются причинами наших
действий. Мы далее предполагаем, что деятель совершил то, что совершил, потому
что наличие склонности и убеждения — это состояния с (соответственно) волевой и
когнитивной основой, и, что еще важнее, они представляют собой психологические
состояния с определенным пропозициональным содержанием. Особый характер
каузации действия главным образом определяется тем фактом, что эти психологические
состояния имели «подходящую направленность» и соответствующее пропозициональное
содержание. Мы полагаем, что деятель совершил F в определенный момент потому, что в это время у него было
желание, репрезентирующее занятие F, а не какое-либо другое действие,
как нечто целесообразное или, говоря другими словами, привлекательное для него.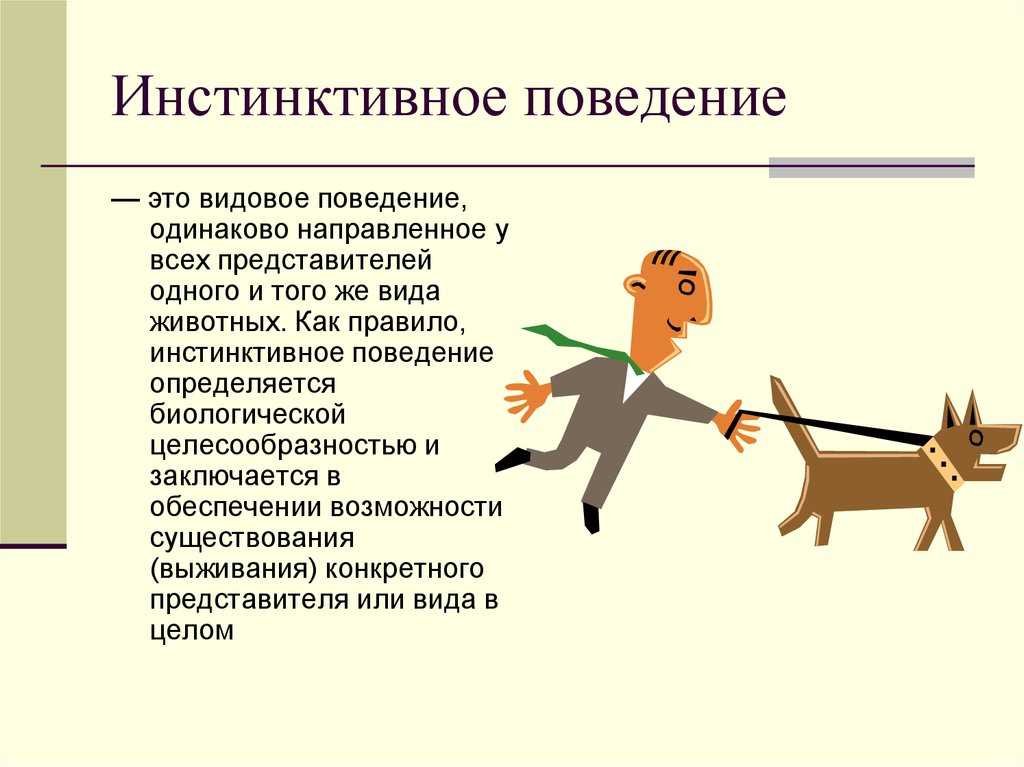
Фред
Дрецке [Dretske 1988]
в этой связи приводил хороший пример. Если от оперного пения сопрано
разбивается бокал, то к этому событию будут иметь отношение факты, касающиеся
акустических свойств пения. Оно не будет
зависеть от факта, что пелась песня и что ее стихи были определенного
содержания. Таким образом, мы предполагаем, что именно акустические свойства, а
не свойства «содержания», будут фигурировать в соответствующих законах,
объясняющих явление. В случае действия мы, напротив, полагаем, что содержание отношений
деятеля является каузально релевантным по отношению к поведению. Содержательная
сторона желаний и убеждений деятеля помогает не только объяснить совершенное
действие, но, по мнению по крайней мере каузалистов, она также играет роль
причины в определении действий, для совершения которых у деятеля есть
мотивация. Непросто было увидеть, каким образом Дэвидсон, отрицая законы
ментального содержания, мог бы принять интуитивно предполагающуюся контрафактическую
зависимость действия от содержания мотивирующих деятеля соображений. В его
теории не предлагается никакого разъяснения фундаментальной роли ментального
содержания в объяснении мотивов. Тем не менее нужно признать, что никто другой
не создал хорошей теории о том, каким образом ментальное содержание выполняет свою
роль. Огромное количество исследований выполнено, чтобы разъяснить, каким
образом пропозициональные установки как реализация состояний нервной системы
выражают пропозициональное содержание. В отсутствие согласия по этому большому
вопросу мы вряд ли продвинемся в изучении проблемы ментальной каузальности, и даже
при существенном прогрессе в атрибуции содержания может остаться непроясненным,
каким образом содержания этих установок могут входить в число причинных
факторов, влияющих на поведение.
В его
теории не предлагается никакого разъяснения фундаментальной роли ментального
содержания в объяснении мотивов. Тем не менее нужно признать, что никто другой
не создал хорошей теории о том, каким образом ментальное содержание выполняет свою
роль. Огромное количество исследований выполнено, чтобы разъяснить, каким
образом пропозициональные установки как реализация состояний нервной системы
выражают пропозициональное содержание. В отсутствие согласия по этому большому
вопросу мы вряд ли продвинемся в изучении проблемы ментальной каузальности, и даже
при существенном прогрессе в атрибуции содержания может остаться непроясненным,
каким образом содержания этих установок могут входить в число причинных
факторов, влияющих на поведение.
На
довольно ранней фазе дебатов о причинном статусе мотивов к действию Норман
Малкольм [Malcolm 1968]
и Чарльз Тейлор [Taylor 1964] отстаивали тезис, согласно которому обычное
объяснение на основе мотивов потенциально конкурирует с тем объяснением,
которое может дать поведению человека и животных нейронаука. Не так давно
Джегвон Ким [Kim
1989] возродил этот
вопрос в более широком контексте, рассмотрев два способа объяснения как общие
примеры Принципа исключения объяснения. В нем утверждается, что если существует
два «полных» и «независимых» объяснения одного и того же события или явления,
то одно из этих альтернативных объяснений должно быть неверным. Находясь под
влиянием Дэвидсона, многие философы стали отрицать законы, отличные от законов
от-мотива-к-действию. Они полагают в более общем смысле, что не существует
законов, связывающих отношения, предлагающие мотив, с какими бы то ни было материальными состояниями, событиями и
процессами, описываемыми физически. Вследствие этого, психология здравого
смысла в строгом смысле слова нередуцируема к нейронауке, и это означает, что
объяснения действия на основе мотивов и соответствующие нейронаучные объяснения
в подразумеваемом смысле «независимы» друг от друга. Однако подробные причинные
объяснения поведения, данные с точки зрения нейрофакторов, также должны быть
«полными» в подразумеваемом смысле.
Не так давно
Джегвон Ким [Kim
1989] возродил этот
вопрос в более широком контексте, рассмотрев два способа объяснения как общие
примеры Принципа исключения объяснения. В нем утверждается, что если существует
два «полных» и «независимых» объяснения одного и того же события или явления,
то одно из этих альтернативных объяснений должно быть неверным. Находясь под
влиянием Дэвидсона, многие философы стали отрицать законы, отличные от законов
от-мотива-к-действию. Они полагают в более общем смысле, что не существует
законов, связывающих отношения, предлагающие мотив, с какими бы то ни было материальными состояниями, событиями и
процессами, описываемыми физически. Вследствие этого, психология здравого
смысла в строгом смысле слова нередуцируема к нейронауке, и это означает, что
объяснения действия на основе мотивов и соответствующие нейронаучные объяснения
в подразумеваемом смысле «независимы» друг от друга. Однако подробные причинные
объяснения поведения, данные с точки зрения нейрофакторов, также должны быть
«полными» в подразумеваемом смысле.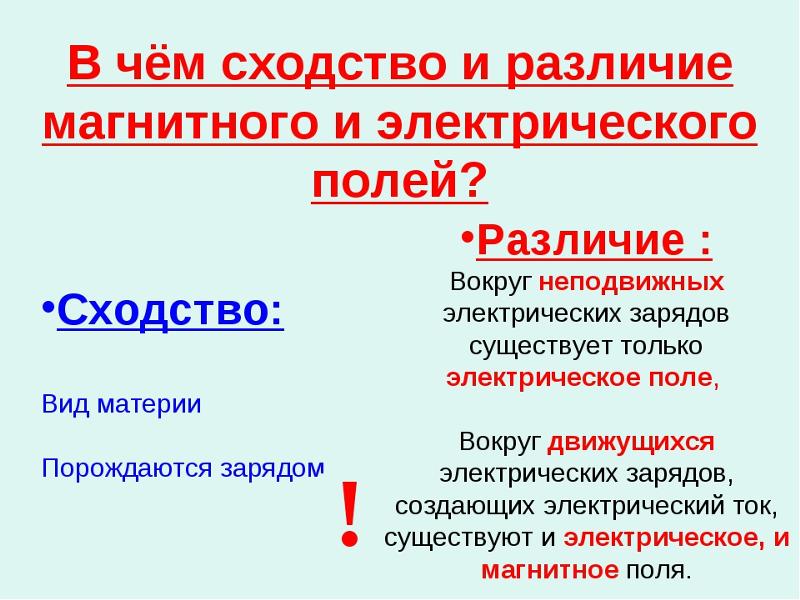 Поэтому Исключением объяснения
утверждается, что либо объяснения на основе мотивов, либо будущие нейронаучные
объяснения должны быть отвергнуты как ложные. Поскольку мы не готовы отрекаться
от одного из лучших и наиболее разработанных научных подходов, то под угрозой
оказывается ни с чем не сравнимая жизнеспособность объяснения на основе
мотивов, с позиции «народной» психологии здравого смысла. Данные вопросы сложны
и полны противоречий, в особенности те, которые связаны с правильным пониманием
«теоретической редукции». Однако если Исключение объяснения применить к
объяснениям действия на основе мотивов, толкующим их каузально, у нас появится
общий стимул для поиска рабочей философской концепции объяснений на основе
мотивов, трактующей их некаузально. Как функциональные объяснения в биологии
могут быть не редуцируемы, но также и не конкурировать со связанными с ними
причинными объяснениями из молекулярной биологии, так и непричинные объяснения
на основе мотивов могут сосуществовать с нейронным анализом причин поведения.
Поэтому Исключением объяснения
утверждается, что либо объяснения на основе мотивов, либо будущие нейронаучные
объяснения должны быть отвергнуты как ложные. Поскольку мы не готовы отрекаться
от одного из лучших и наиболее разработанных научных подходов, то под угрозой
оказывается ни с чем не сравнимая жизнеспособность объяснения на основе
мотивов, с позиции «народной» психологии здравого смысла. Данные вопросы сложны
и полны противоречий, в особенности те, которые связаны с правильным пониманием
«теоретической редукции». Однако если Исключение объяснения применить к
объяснениям действия на основе мотивов, толкующим их каузально, у нас появится
общий стимул для поиска рабочей философской концепции объяснений на основе
мотивов, трактующей их некаузально. Как функциональные объяснения в биологии
могут быть не редуцируемы, но также и не конкурировать со связанными с ними
причинными объяснениями из молекулярной биологии, так и непричинные объяснения
на основе мотивов могут сосуществовать с нейронным анализом причин поведения.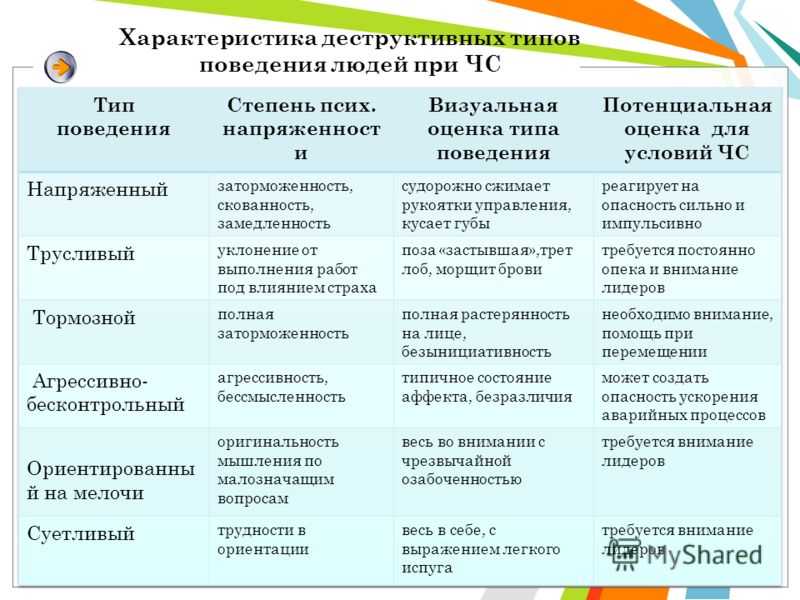
Выше мы представили точку зрения когнитивистов, согласно которой намерения являются особого типа убеждениями, а практическая аргументация, соответственно, представляет собой особую форму теоретической аргументации. Некоторых теоретиков действия привлекал когнитивизм из-за того, что он сулил подтверждение тезиса Энском (по общему признанию, спорного), что при намеренном действии у нас есть знание того, что мы делаем, которое мы не выводим из наблюдения. Однако противоположная позиция была, по крайней мере, настолько же известна на протяжении последних двадцати пяти лет размышлений о природе намерения. Философы — представители данной традиции обратили внимание на проект такой концепции намерения, которая бы схватывала тот факт, что намерения — это особые ментальные состояния, играющие уникальную роль в психологических объяснениях и подчиняющиеся своим собственным нормативным требованиям.
Данный
проект выявления особенной природы намерения был выполнен в «Intention, Plans, and Practical Reason» Майкла Братмана [Bratman 1987] отчасти
как ответ на редуктивную концепцию, которая продвигалась ранним Дэвидсоном и в
соответствии с которой намерения могут анализироваться как комплексы убеждений
и желаний. Большая часть современных работ по нормативности и моральной
психологии может быть рассмотрена как проистекающая из главного (как
заявляется) открытия Братмана, касающегося особой природы намерения.
Большая часть современных работ по нормативности и моральной
психологии может быть рассмотрена как проистекающая из главного (как
заявляется) открытия Братмана, касающегося особой природы намерения.
Согласно
простой модели желание-убеждение, намерение представляет собой объединение
состояний желания-убеждения, и действие является намеренным благодаря тому, что
находится в соответствующем отношении к этим более простым состояниям. К
примеру, сказать, что кто-то намеренно включил кондиционер, означает просто
объяснить его действие ссылкой на (например) желание включить кондиционер и
убеждение, что определенные движения его руки — это конкретный случай данного
типа действия. Важно отметить, что ранние аргументы Братмана были направлены
против простой модели намерения как желания-убеждения, но не обязательно против
модели, предложенной когнитивистами. Через мгновение мы обратимся к вопросу о
том, в какой степени теория намерения Братмана опровергает последнюю.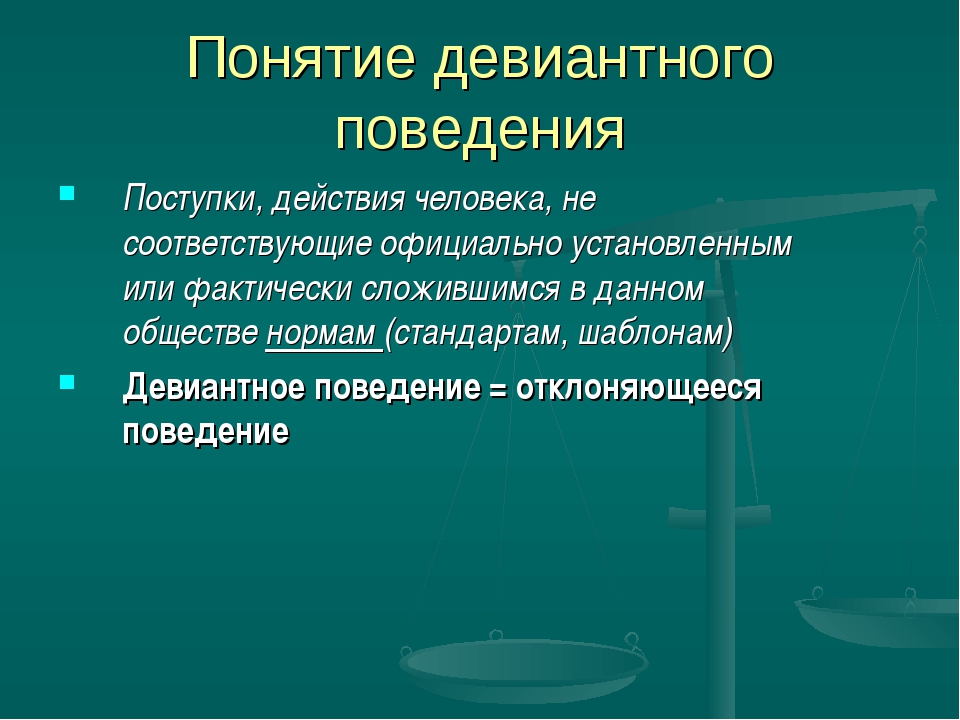
Братман
высказал идею, согласно которой намерения психологически реальны и не
редуцируемы к комплексам желаний и убеждений, отметив тот факт, что они
мотивационно отличны и подчиняются своим собственным стандартам рациональной
оценки. Во-первых, он отмечал, что намерения содержат особые типы мотивационных
обязательств. Намерения контролируют поведение в том смысле, что если ты
намереваешься выполнить F в момент времени t
и ничто не меняется до наступления t, то (при прочих равных) ты
выполнишь F. То же не будет истинным в
отношении желаний; мы часто сопротивляемся желаниям, относящимся к настоящему.
Во-вторых, он отмечал, что намерения приводят к появлению особых видов
нормативного долга (или «долга, определяемого аргументативно»). Намерения не
так легко пересмотреть — они довольно постоянны в том смысле, что мы видим себя
в рамках некоторого направления действия, когда планируем его, и было бы
иррационально пересматривать свое намерение при отсутствии особой причины для
этого.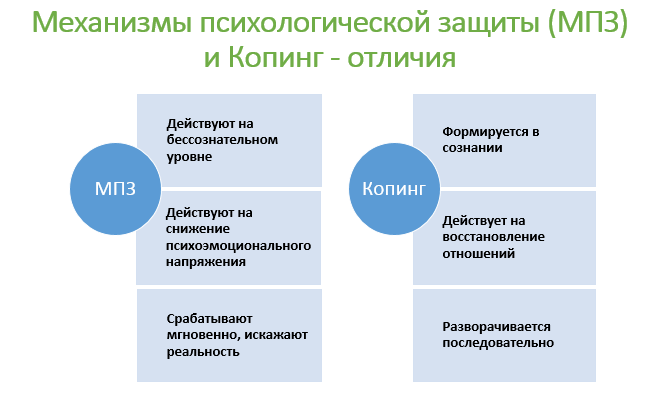 К тому же намерения довлеют над нами и вызывают формирование следующих
намерений, чтобы целесообразно координировать наши действия. Когда мы
намереваемся, к примеру, пойти в парк, мы испытываем необходимость продумать,
как туда добраться, что с собой взять и так далее. Напротив, желания,
по-видимому, не подпадают под нормы запрета на пересмотр, и они не оказывают
никакого давления на нас, чтобы мы испытывали необходимость в формировании
дальнейших желаний, касающихся возможностей.
К тому же намерения довлеют над нами и вызывают формирование следующих
намерений, чтобы целесообразно координировать наши действия. Когда мы
намереваемся, к примеру, пойти в парк, мы испытываем необходимость продумать,
как туда добраться, что с собой взять и так далее. Напротив, желания,
по-видимому, не подпадают под нормы запрета на пересмотр, и они не оказывают
никакого давления на нас, чтобы мы испытывали необходимость в формировании
дальнейших желаний, касающихся возможностей.
Братман дал более подробную характеристику конститутивных норм намерения, и она оказалась очень влиятельной. Три основные нормы, обсуждаемые им, — это требования внутренней согласованности, соответствия средств цели и согласованности с убеждениями деятеля. Применимость этих требований к состояниям намерения расценивалась Братманом как следующий удар по модели желание-убеждение.
В первой
норме предполагается соответствие одних намерений деятеля другим намерениям.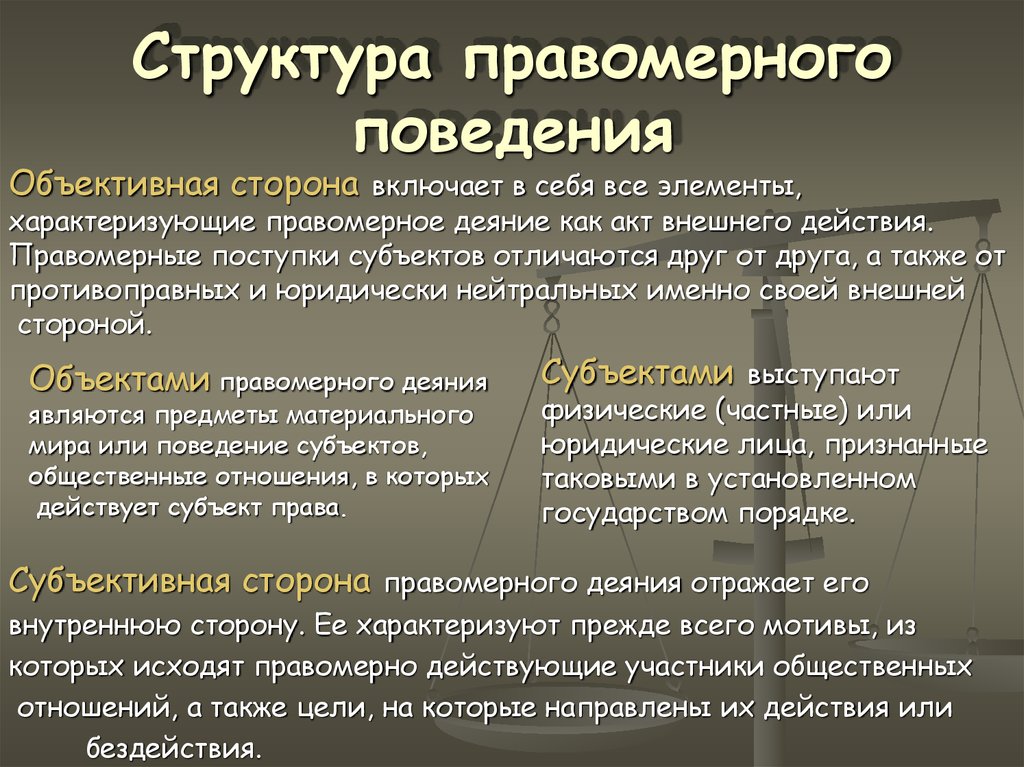 Представим, что Майк собирается пойти на матч, а также намеревается
воздержаться от этого. Очевидно, это кажется иррациональным. Хотя для самого
Майка не будет иррациональным желать пойти на матч и желать воздержаться от
этого. Таким образом, по-видимому, иррациональность обладания несовместимыми
намерениями не может быть объяснена ссылкой на нормы, действующие для желания и
убеждения. Сходным образом намерения, по-видимому, подчиняются нормам
согласованности средств и цели. Если Майк намеревается пойти на матч и
полагает, что ему следует купить билет заранее, чтобы попасть туда, то он,
очевидно, будет вести себя иррационально, если не будет намереваться покупать
билет (утверждаясь при этом в своем намерении пойти на матч). Напротив, простое
желание пойти на матч и допущение, что для этого нужен билет, недостаточны для
того, чтобы объявить Майка иррациональным из-за того, что он не пожелал купить
билет. Таким образом, вновь обнаруживается, что норм убеждений и желаний
недостаточно для того, чтобы произвести нормы для намерений.
Представим, что Майк собирается пойти на матч, а также намеревается
воздержаться от этого. Очевидно, это кажется иррациональным. Хотя для самого
Майка не будет иррациональным желать пойти на матч и желать воздержаться от
этого. Таким образом, по-видимому, иррациональность обладания несовместимыми
намерениями не может быть объяснена ссылкой на нормы, действующие для желания и
убеждения. Сходным образом намерения, по-видимому, подчиняются нормам
согласованности средств и цели. Если Майк намеревается пойти на матч и
полагает, что ему следует купить билет заранее, чтобы попасть туда, то он,
очевидно, будет вести себя иррационально, если не будет намереваться покупать
билет (утверждаясь при этом в своем намерении пойти на матч). Напротив, простое
желание пойти на матч и допущение, что для этого нужен билет, недостаточны для
того, чтобы объявить Майка иррациональным из-за того, что он не пожелал купить
билет. Таким образом, вновь обнаруживается, что норм убеждений и желаний
недостаточно для того, чтобы произвести нормы для намерений.
Наконец, Братман утверждает, что рациональные деятели обладают намерениями, которые согласованы с их убеждениями. Точная природа этой нормы согласованности с тех пор немало обсуждалась [Bratman 1987; Wallace 2001; Yaffe 2010]. Однако общая идея заключается в том, что иррационально намереваться делать F и в то же время полагать, что действие F не будет выполнено, — это можно было бы свести к неприемлемой форме противоречия. Хотя желать F, полагая в то же время, что F выполнено не будет, совсем не выглядит как ошибка, связанная с рациональностью.
[Стоит
отметить, что общая интуиция, касающаяся иррациональности этой формы
противоречия, не является неоспоримой. Как отмечал сам Братман, кажется вполне
возможным и не иррациональным намереваться остановиться у библиотеки, не будучи
убежденным, что сделаешь это (отдавая должное собственной забывчивости). Если
это верно, то не является непосредственно очевидным, почему я не мог
намереваться остановиться, отдавая себе в то же время отчет, что я этого не
сделаю].
Тем не
менее, хотя кажется, что аргументы Братмана являются сокрушительными в
отношении концепции намерения как желания-убеждения, они не настолько
действенны против когнитивистской редукции намерений к убеждениям. К примеру,
рассмотрим еще раз норму согласованности намерения, в соответствии с которой
Майк осуждается за ошибку, когда намеревается пойти на матч, а также
намеревается воздержаться от этого. Мы предполагали выше, что эта норма не
может быть объяснена ссылкой на нормы желания, поскольку допустимо иметь
несовместимые желания. Однако представим сейчас, что намерение совершить F
является просто убеждением (или с необходимостью влечет его), что действие F
будет выполнено. Тогда намерение совершить F и
воздержаться от этого действия приводит к тому, что имеются противоречивые
убеждения. Таким образом, если когнитивист сможет принять это конститутивное
утверждение связи между намерением и убеждением, то, по-видимому, у него появится
привлекательное объяснение нормы, требующей согласованности намерений. Статус
этого конститутивного утверждения и вероятности выведения из него иных норм
(например, соответствия средств цели) — предмет для обсуждения (см. [Ross 2008]). Конечно же, если Братман был
прав, утверждая, что я могу намереваться сделать F, не
будучи при этом убежден, что я сделаю F, то
когнитивистское представление о намерении окажется изначально обреченным.
Статус
этого конститутивного утверждения и вероятности выведения из него иных норм
(например, соответствия средств цели) — предмет для обсуждения (см. [Ross 2008]). Конечно же, если Братман был
прав, утверждая, что я могу намереваться сделать F, не
будучи при этом убежден, что я сделаю F, то
когнитивистское представление о намерении окажется изначально обреченным.
Увиденное
тогда в ином свете заключение, что намерения психологически реальны и
нередуцируемы к более простым состояниям, может отстаиваться посредством
критики движущих сил, побуждающих к принятию когнитивизма. Схожим образом
некоторые философы (в особенности Сара Пол [Paul 2009]) утверждали, что когнитивист
придерживается непривлекательного представления, обосновывающего формирование
намерений. В соответствии с этим взглядом, намерение является убеждением
следующей формы: «Сейчас я совершу F». Однако Пол подчеркивает, что до
того, как у меня появляется намерение, у меня обычно нет достаточного основания
думать, что я совершу то действие, которое намереваюсь, — если же оно у меня
есть, то мне вовсе не нужно иметь намерение совершить F. Отсюда следует, что намерение конститутивным образом включает в себя
формирование убеждения, которое для меня недостаточно очевидно. В самом деле,
оказывается, что единственный тип рассмотрения, который потенциально работает в
пользу убеждения, что я совершу F, — это мое предпочтение в пользу
того, что оно окажется истинным. Таким образом, намерение оказывается своего
рода принятием желаемого за действительное в рамках когнитивисткой картины. Это
можно увидеть как проблему с учетом того, что обычно мы расцениваем принятие
желаемого за действительное как глубоко иррациональное, а намерение — как совершенно
рациональное. [Стоит здесь отметить, что Веллеман [Velleman 1989] пользовался этой идеей; он
полагал, что достаточно обосновать рациональность намерений тем, что они будут рационально
одобрены, как только осуществятся. Пол возражает конкретно Сетийи [Setiya 2008], который не рассматривал
полагание Веллемана на обоснование post
hoc
как достаточное
для подтверждения формирования намерения].
Отсюда следует, что намерение конститутивным образом включает в себя
формирование убеждения, которое для меня недостаточно очевидно. В самом деле,
оказывается, что единственный тип рассмотрения, который потенциально работает в
пользу убеждения, что я совершу F, — это мое предпочтение в пользу
того, что оно окажется истинным. Таким образом, намерение оказывается своего
рода принятием желаемого за действительное в рамках когнитивисткой картины. Это
можно увидеть как проблему с учетом того, что обычно мы расцениваем принятие
желаемого за действительное как глубоко иррациональное, а намерение — как совершенно
рациональное. [Стоит здесь отметить, что Веллеман [Velleman 1989] пользовался этой идеей; он
полагал, что достаточно обосновать рациональность намерений тем, что они будут рационально
одобрены, как только осуществятся. Пол возражает конкретно Сетийи [Setiya 2008], который не рассматривал
полагание Веллемана на обоснование post
hoc
как достаточное
для подтверждения формирования намерения].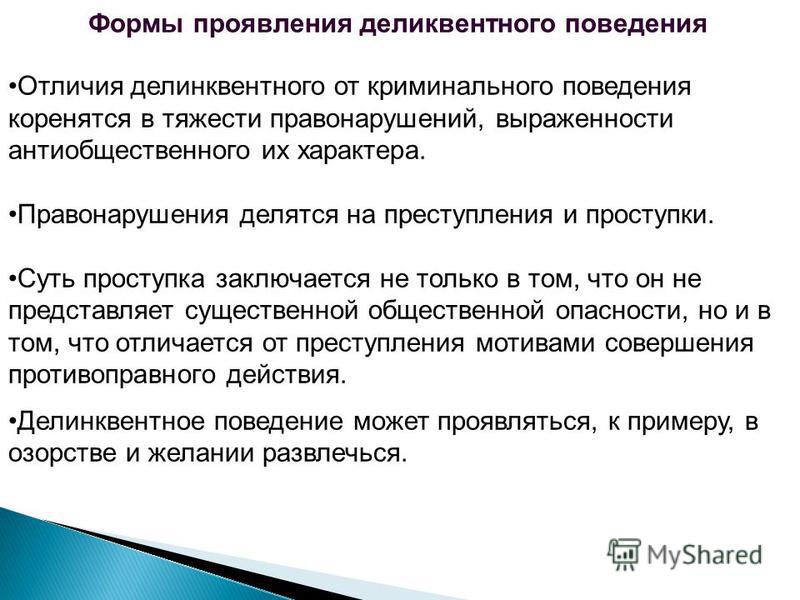 Пол обращается к этим и иным
проблемам когнитивистов, чтобы утвердить намерения в качестве отдельных
практических отношений, не поддающихся редукции к теоретическому отношению
убеждения. Так понятая, данная критика когнитивизма связана с критикой
Братманом раннего редуктивного представления о намерении Дэвидсона.
Пол обращается к этим и иным
проблемам когнитивистов, чтобы утвердить намерения в качестве отдельных
практических отношений, не поддающихся редукции к теоретическому отношению
убеждения. Так понятая, данная критика когнитивизма связана с критикой
Братманом раннего редуктивного представления о намерении Дэвидсона.
Эти
только обозначенные вопросы, касающиеся намерения, являются примером более
общего проекта понимания природы наших ментальных состояний посредством осмысления
нормативных требований, применяемых к ним. Так же, как некоторые философы
пытаются осветить природу убеждения таким образом, чтобы это стало вкладом в
эпистемологию и философию сознания, вынося на счет нее нормативные утверждения,
— к примеру, утверждая, что убеждение «стремится к истине» [Velleman 2000; Shah
2003], — многие философы, интересующиеся деятельностью, стали все больше
надеяться, что результатом всестороннего исследования нормативности намерений
станут выводы, значимые для других областей исследования. Руководящая мысль
Гидеона Яффе в амбициозной работе «Attempts» [Yaffe 2010] буквально и заключается в
том, что соответствующая концепция нормативных обязательств намерения сыграет
большую роль в том, чтобы показать нам, каким образом должно быть
структурировано уголовное право.
Руководящая мысль
Гидеона Яффе в амбициозной работе «Attempts» [Yaffe 2010] буквально и заключается в
том, что соответствующая концепция нормативных обязательств намерения сыграет
большую роль в том, чтобы показать нам, каким образом должно быть
структурировано уголовное право.
Однако
идея существования самостоятельных норм намерения подвергалась критике также с
другой стороны. Нико Колодни [Kolodny 2005, 2007, 2008] с долей скепсиса
утверждал, что у нас нет никакой причины быть рациональными, и основное
следствие этой мысли таково, что не существует исключительно рациональных норм
в отношении наших пропозициональных установок. (Рац [Raz 2005] отстаивает сходное
утверждение, однако ограничивает свой скептицизм тем, что он принимает за
мифическую норму соответствия средств цели.) Мы не располагаем достаточным
местом, чтобы подробно представить аргументы Колодни. Его две основные идеи:
во-первых, все предполагаемые требования согласованности, основывающиеся на
рациональности, на самом деле поддерживаются двумя «ключевыми» требованиями,
опирающимися на рациональное принуждение к формированию и воздержанию от
формирования установок на основе наших убеждений о том, имеются ли достаточные
основания для этих установок; и, во-вторых, эти ключевые требования сами по
себе не являются подлинно нормативными. Если бы Колодни был прав, рациональные
нормы, касающиеся намерения, должны были бы быть объяснены посредством отсылки
к тем же принципам, что и нормы убеждения и любые другие отношения, к которым
применима нормативность, и, более того, были бы в лучшем случае псевдо-нормами
или принципами, которые лишь выглядят
нормативными для нас. Это не означает победы когнитивизма, поскольку в
объяснении будут использоваться характеристики, лежащие в основании всех
аргументативных процессов, а не только необходимой связи между обладанием
намерениями и убеждениями. Но точка зрения Колодни может быть расценена как
угроза для идеи, что исследование норм, касающихся намерения, является успешным
способом решения других проблем. В любом случае данный скептицизм в отношении
авторитетности и автономности рациональности в высокой степени противоречив и опирается
на спорные утверждения о рассуждениях и логической форме рациональных
требований (см.
Если бы Колодни был прав, рациональные
нормы, касающиеся намерения, должны были бы быть объяснены посредством отсылки
к тем же принципам, что и нормы убеждения и любые другие отношения, к которым
применима нормативность, и, более того, были бы в лучшем случае псевдо-нормами
или принципами, которые лишь выглядят
нормативными для нас. Это не означает победы когнитивизма, поскольку в
объяснении будут использоваться характеристики, лежащие в основании всех
аргументативных процессов, а не только необходимой связи между обладанием
намерениями и убеждениями. Но точка зрения Колодни может быть расценена как
угроза для идеи, что исследование норм, касающихся намерения, является успешным
способом решения других проблем. В любом случае данный скептицизм в отношении
авторитетности и автономности рациональности в высокой степени противоречив и опирается
на спорные утверждения о рассуждениях и логической форме рациональных
требований (см. [Bridges
2009; Broom
1999, 2007; Schroeder
2004, 2009; Finlay
2010; Brunero
2010; Shpall
2012; Way
2010]).
[Bridges
2009; Broom
1999, 2007; Schroeder
2004, 2009; Finlay
2010; Brunero
2010; Shpall
2012; Way
2010]).
Наконец,
Ричард Холтон [Holton
2008, 2009] инициировал появление нового направления в современном исследовании
природы намерения, защищая новую теорию частичных намерений. Согласно его
концепции, частичные намерения — это состояния, подобные намерениям, которые
фигурируют как подстратегии в контексте больших, более сложных планов по
достижению намеченной цели. Такие частичные намерения, как полагает Холтон,
необходимы для достаточно богатых и сложных психологических объяснений: простая
отсылка к полным намерениям не может охватить широкий спектр феноменов, которые
можно объяснить с помощью состояний, схожих с намерениями. Во многом подобно специфическим
состояниям веры, частичные намерения, возможно, привнесут с собой новые нормы. Интуитивно
понятно, что глубокая вера в то, что Испания выиграет Кубок Мира, налагает на
меня иные обязательства, чем просто убеждение, что Испания победит.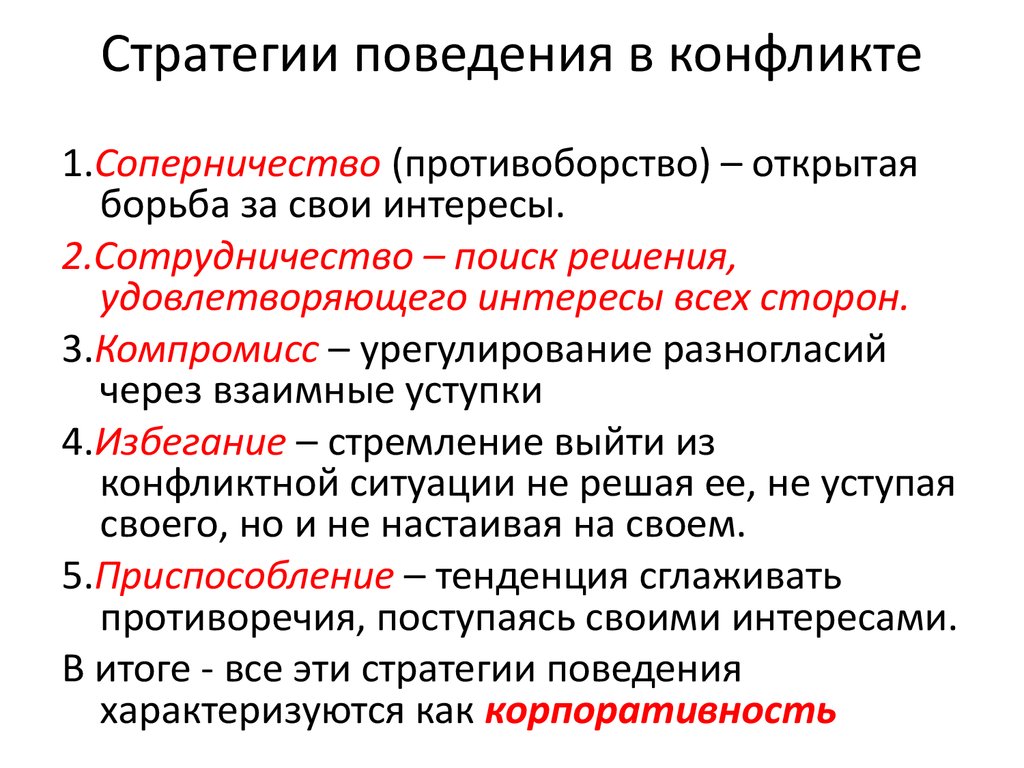 Схожим
образом, намерение украсть печенье из блюда, являющееся лишь частичным
намерением, нормативно выглядит иначе, чем полное намерение украсть печенье.
Схожим
образом, намерение украсть печенье из блюда, являющееся лишь частичным
намерением, нормативно выглядит иначе, чем полное намерение украсть печенье.
Существует
большое количество нерешенных вопросов, связанных с подходом Холтона и природой
частичных намерений в целом. К примеру, почему состояния частичного намерения
Холтона не могут быть проанализированы как обычные намерения с зависящим от
условий содержанием? И почему мы должны допускать, что существует связь между
частичностью намерения и тем, что оно является элементом более общего плана?
Если конкурирующие концепции частичного намерения приведут к появлению более
единообразного представления о частичных отношениях, будет ли это являться их
существенным преимуществом? Рассмотрим подходы, связывающие понятие частичного
намерения с (частичной) степенью, в которой деятель привержен рассматриваемому
действию. Такие подходы могут сообщить много интересного об отношении между
состояниями веры и частичными намерениями — они являются видами одного рода в
том смысле, что содержат не полную, а частичную приверженность рассматриваемой
пропозиции или действию.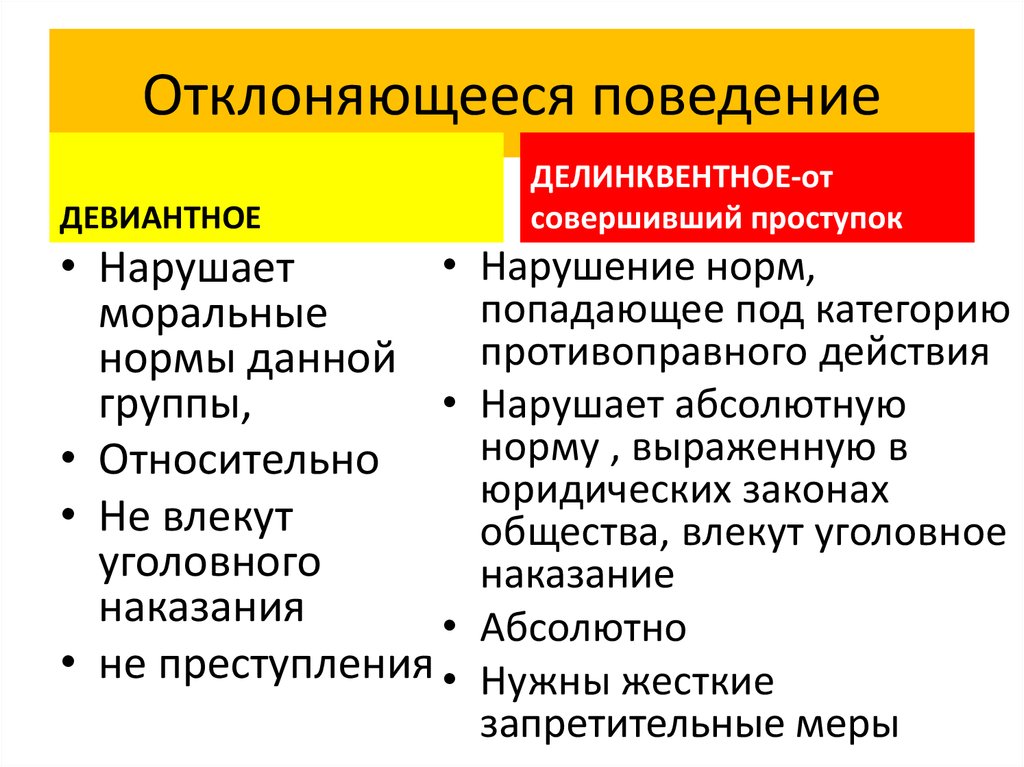 Размышление об этих вопросах сейчас еще только начинается,
но с высокой вероятностью оно прольет свет по крайней мере на некоторые
основные вопросы нормативности, интересующие философов действия.
Размышление об этих вопросах сейчас еще только начинается,
но с высокой вероятностью оно прольет свет по крайней мере на некоторые
основные вопросы нормативности, интересующие философов действия.
Aguilar, J. and A Buckareff, A. (eds.), 2010, Causing Human Action: New Perspectives on the Causal Theory of Acting, Cambridge MA: MIT Press.
Alvarez, Maria, 2010, Kinds of Reason: An Essay in the Philosophy of Action, Oxford: Oxford University Press.
Anscombe, Elizabeth, 2000, Intention (reprint), Cambridge, MA: Harvard University Press.
Austin, J.L., 1962, How to do Things with Words, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, 1970, Philosophical Essays, J.O. Urmson and G.J. Warnock (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Baier, Annette, 1970, “Act and Intent,” Journal of Philosophy, 67: 648–658.

Bishop, John, 1989, Natural Agency, Cambridge: Cambridge University Press.
Bratman, Michael, 1984, “Two Faces of Intention”, Philosophical Review, 93: 375–405; reprinted in Mele 1997.
–––, 1987, Intention, Plans, and Practical Reason, Cambridge, MA: Harvard University Press.
–––, 1992, “Shared Cooperative Activity,” The Philosophical Review, 101: 327–341; reprinted in Bratman 1999.
–––, 1999, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 2006, Structures of Agency, Oxford: Oxford University Press.
Bridges, Jason, 2009, “Rationality, Normativity, and Transparency,” Mind, 118: 353–367.
Broome, John, 1999, “Normative Requirements,” Ratio, 12(4): 398–419.
–––, 2007, “Wide or Narrow Scope?,” Mind, 116(462): 359–70.

Brunero, John, 2010, “The Scope of Rational Requirements,” Philosophical Quarterly, 60(238): 28–49.
Castañeda, Hector-Neri, 1975, Thinking and Doing, Dordrecht: D. Reidel.
Cleveland, Timothy, 1997, Trying Without Willing, Aldershot: Ashgate Publishing.
Dancy, Jonathan, 2000, Practical Reality, Oxford: Oxford University Press.
Davidson, Donald, 1980, Essays on Actions and Events, Oxford: Oxford University Press.
Dretske, Fred, 1988, Explaining Behavior, Cambridge, MA: MIT Press.
Falvey, Kevin, 2000, “Knowledge in Intention”, Philosophical Studies, 99: 21–44.
Farrell, Dan, 1989, Intention, Reason, and Action, American Philosophical Quarterly, 26: 283–95.
Finlay, Stephen, 2010, “What Ought Probably Means, and Why You Can’t Detach It,” Synthese, 177: 67–89.

Fodor, Jerry, 1990, A Theory of Content and Other Essays, Cambridge, MA: MIT Press.
Ford, A., Hornsby, J, and Stoutland, F. (eds), 2011, Essays on Anscombe’s Intention, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Frankfurt, Harry, 1978 “The Problem of Action”, American Philosophical Quarterly, 15: 157–62; reprinted in Mele 1997.
–––, 1988, The Importance of What We Care About, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 1999, Volition, Necessity, and Love, Cambridge: Cambridge University Press.
Gilbert, Margaret, 2000, Sociality and Responsibility: New Essays in Plural Subject Theory, Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Ginet, Carl, 1990, On Action, Cambridge: Cambridge University Press.
Goldman, Alvin, 1970, A Theory of Human Action, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Grice, H.P., 1971, “Intention and Certainty”, Proceedings of the British Academy, 57: 263–79.
Hare, R.M., 1971, “Wanting: Some Pitfalls,” in R. Binkley et al (eds.), Agent, Action, and Reason, Toronto: University of Toronto Press, pp. 81–97.
Harman, Gilbert, “Practical Reasoning”, Review of Metaphysics, 79: 431–63; reprinted in Mele 1997.
–––, 1986, Change in View, Cambridge, MA: MIT Press.
Higginbotham, James (ed.), 2000, Speaking of Events, New York: Oxford University Press.
Holton, Richard, 2008, “Partial Belief, Partial Intention,” Mind, 117(465): 27–58.
–––, 2009, Willing, Wanting, and Waiting, Cambridge, MA: MIT Press.
Hornsby, Jennifer, 1980, Actions, London: Routledge & Kegan Paul.
–––, 1997, Simple-Mindedness: In Defense of Naïve Naturalism in the Philosophy of Mind, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kenny, A., 1973, Action, Emotion, and Will, London: Routledge & Kegan Paul.
Kim, Jaegwon, 1989, “Mechanism, Purpose, and Explanatory Exclusion”, Philosophical Perspectives, 3: 77–108; reprinted in Mele 1997.
Knobe, Joshua, 2006, “The Concept of Intentional Action: A Case Study in the Uses of Folk Psychology,” Philosophical Studies, 130: 203–31.
Knobe J. and Nichols, S. (eds.), 2008, Experimental Philosophy, New York: Oxford University Press.
Kolodny, Niko, 2005, “Why Be Rational?” Mind 114(455): 509–63.
–––, 2007, “State or Process Requirements?” Mind, 116(462): 371–85.
Korsgaard, Christine, 1996, The Sources of Normativity, Cambridge: Cambridge University Press.
Malcolm, Norman, 1968, “The Conceivability of Mechanism”, Philosophical Review, 77: 45–72.

McCann, Hugh, 1986, “Rationality and the Range of Intention”, Midwest Studies in Philosophy, 10: 191–211.
–––, 1998, The Works of Agency, Ithaca NY: Cornell University Press.
McLaughlin, Brian, forthcoming, “Why Rationalization Is Not a Species of Causal Explanation,” in J. D’Oro (ed.), 2012, Reasons and Causes: Causalism and anti-Causalism in the Philosophy of Action, London: Palgrave McMillan.
Mele, Alfred, 1992, The Springs of Action, New York: Oxford University Press.
–––, 2001, Autonomous Agents, Oxford: Oxford University Press.
Mele, Alfred (ed.), 1997, The Philosophy of Action, Oxford: Oxford University Press.
Millikan, Ruth, 1993, White Queen Psychology and other Essays for Alice, Cambridge, MA: MIT Press.
Moran, Richard, 2001, Authority and Estrangement: An Essay on Self-Knowledge, Princeton: Princeton University Press.

–––, 2004, “Anscombe on Practical Knowledge,” Philosophy, 55 (Supp): 43–68.
O’Shaughnessy, Brian, 1973, “Trying (as the Mental ‘Pineal Gland’),” Journal of Philosophy, 70: 365–86; reprinted in Mele 1997.
–––, 1980, The Will (2 volumes), Cambridge: Cambridge University Press.
Parsons, Terence, 1990, Events in the Semantics of English, Cambridge, MA: MIT Press.
Petit, Phillip, 2003, “Groups with Minds of their Own,” in Frederick Schmitt (ed.), Socializing Metaphysics — the Nature of Social Reality, Lanham, MD: Rowman & Littlefield: 167–93.
Paul, Sarah, 2009a, “How We Know What We’re Doing,” Philosophers’ Imprint, 9(11).
–––, 2009b, “Intention, Belief, and Wishful Thinking: Setiya on ‘Practical Knowledge’,” Ethics, 119(3): 546–557.
Pietroski, Paul, 2000, Causing Actions, New York: Oxford University Press.

Raz, Joseph, 2005, “The Myth of Instrumental Rationality,” Journal of Ethics and Social Philosophy, 1(1): 2–28.
Roth, Abraham, 2000, “Reasons Explanation of Actions: Causal, Singular, and Situational”, Philosophy and Phenomenological Research, 59: 839–74.
–––, 2004, “Shared Agency and Contralateral Commitments,” Philosophical Review, 113 July: 359–410.
Schroeder, Mark, 2004, “The Scope of Instrumental Reason,” Philosophical Perspectives (Ethics), 18: 337–62.
–––, 2009, “Means End Coherence, Stringency, and Subjective Reasons,” Philosophical Studies, 143(2): 223–248.
Searle, John, 1983, Intentionality, Cambridge: Cambridge University Press.
–––, 1990 “Collective Intentions and Actions,” in P. Cohen, J. Morgan, and M. Pollak (eds.), Intentions in Communication, Cambridge, MA: MIT Press.

Sehon, Scott, 1994, “Teleology and the Nature of Mental States”, American Philosophical Quarterly, 31: 63–72.
–––, 1998, “Deviant Causal Chains and the Irreducibility of Teleological Explanation”, Pacific Philosophical Quarterly, 78: 195–213.
–––, 2005, Teleological Realism: Mind, Agency, and Explanation, Cambridge MA: MIT Press.
Sellars, Wilfrid, 1966, “Thought and Action”, in Keith Lehrer (ed.) Freedom and Determinism, New York: Random House.
Setiya, Kieran, 2003, “Explaining Action,” Philosophical Review, 112: 339–93.
–––, 2007, Reasons without Rationalism, Princeton: Princeton University Press.
–––, 2008, “Cognitivism about Instrumental Reason,” Ethics, 117(4): 649–673.
–––, 2009, “Intention,”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N.
 Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/intention/.
Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/intention/.Shah, Nishi, 2003, “How Truth Governs Belief,” Philosophical Review, 112(4): 447–482.
Shpall, Sam, forthcoming, “Wide and Narrow Scope”, Philosophical Studies.
Smith, Michael, 1987, “The Humean Theory of Motivation”, Mind, 96: 36–61.
–––, 1994, The Moral Problem, Oxford: Blackwell.
Stich, Stephen and Warfield, Ted (eds.), 1994, Mental Representation: a Reader, Oxford: Blackwell.
Taylor, Charles, 1964, The Explanation of Behavior, London: Routledge & Kegan Paul.
Tenenbaum, Sergio, 2007, Appearances of the Good, Cambridge: Cambridge University Press.
Thompson, Michael, 2010 Life and Action, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tuomela, R., 1977, Human Action and its Explanation, Dordrecht: D.
 Reidel.
Reidel.–––, 2003. “The We-Mode and the I-Mode,” in Frederick Schmitt (ed.), Socializing Metaphysics — the Nature of Social Reality, Lanham, MD: Rowman & Littlefield: 93–127.
Velleman, J. David, 1989, Practical Reflection, Princeton: Princeton University Press.
–––, 2000, The Possibility of Practical Reason, Oxford: Oxford University Press.
Vermazen, Bruce and Hintikka, Merrill (eds), 1985, Essays on Davidson: Actions and Events, Cambridge, MA: MIT Press.
von Wright, Georg, 1971, Explanation and Understanding, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Wallace, R. Jay, 2006, Normativity and the Will, Oxford: Oxford University Press.
–––, 2001, “Normativity, Commitment, and Instrumental Reason,” Philosophers’ Imprint, 1(4).
Way, J., 2010, “Defending the Wide Scope Approach to Instrumental Reason,” Philosophical Studies, 147(2): 213–33.

Watson, Gary, 2004, Agency and Answerability: Selected Essays, Oxford: Oxford University Press.
Wilson, George, 1989, The Intentionality of Human Action, Stanford, CA: Stanford University Press.
–––, 2000, “Proximal Practical Foresight”, Philosophical Studies, 99: 3–19.
Yaffe, Gideon, 2010, Attempts: In the Philosophy of Action and the Criminal Law, New York, Oxford University Press.
Перевод Д.В. Чирва
[1] См. [O’Shaughnessy 1973, 67]. В [O’Shaughnessy 1980] автор существенным образом изменяет свою позицию по этому вопросу и по другим, связанным с ним. В поздней работе содержится лучшее, наиболее полное исследование фундаментальных метафизических вопросов о действии. В [Cleveland 1997] содержится полезное критическое обсуждение.
[2] Данная фраза взята у Энском [Anscombe 1963], однако она использовалась многими авторами, и иногда без четкого согласия о ее использовании. О каузалистской интерпретации содержания намерений как самореферирующих см., например, [Searle 1983].
О каузалистской интерпретации содержания намерений как самореферирующих см., например, [Searle 1983].
[3] В литературе, следуя предложению Дэвидсона, принято рассматривать предполагаемую эквивалентность выражений «Деятель намеренно совершил G» и «Деятель совершил G, имея на то причину». Как бы ни отличалось это предложение от того, что приводится в тексте, это не имеет большого значения для текущего обсуждения.
[4] Дэвидсон наиболее явно высказывается в пользу (7**) или его более слабой версии на стр. 221 своего «Reply to Vermazen» в [Vermazen and Hintikka 1985].
[5] В его работе «Метальные события» [Davidson 1980, essay 11] отрицание того, что существуют законы от-мотива-к-действию, оформленные с помощью психологического словаря обыденной речи, отмечалось особо, и это играло важную роль в исходном аргументе, построенном им в пользу тождества конкретных (token) ментальных и физических состояний.
Уилсон Джордж, Шполл Сэмюэль.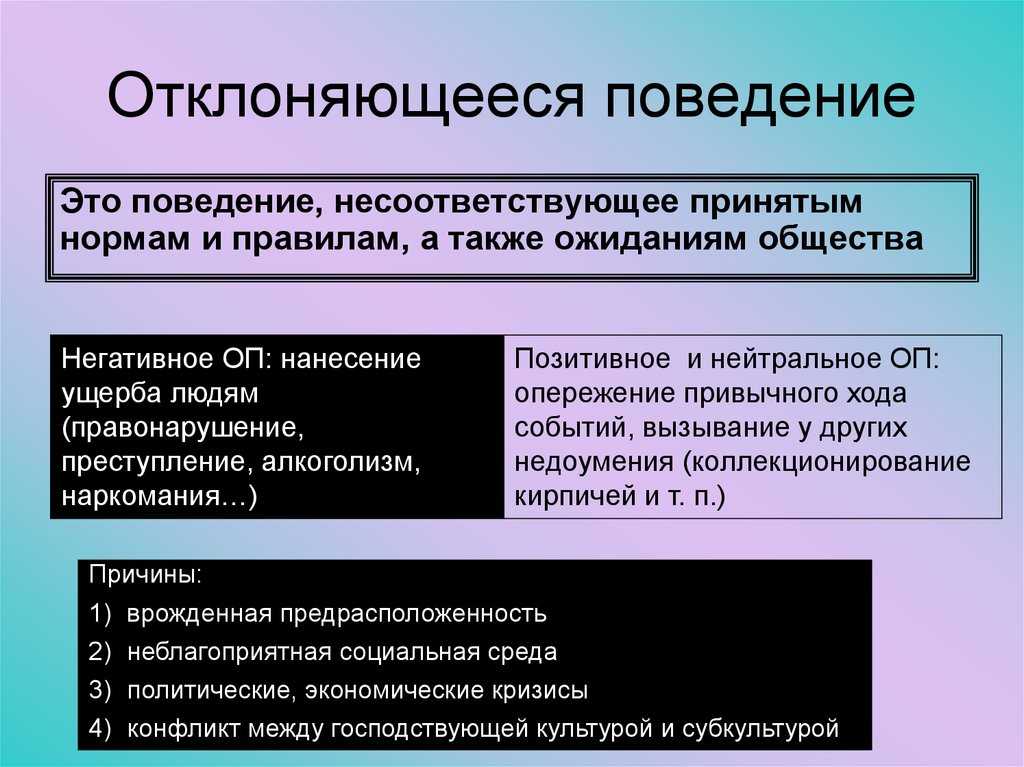 Действие // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. URL=<http://philosophy.ru/action>.
Действие // Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. URL=<http://philosophy.ru/action>.
Оригинал: Wilson, George and Shpall, Samuel, «Action», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/action/>.
С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии >> Сознательное действие
Сознательное действие — это не действие, которое сопровождается сознанием, которое помимо своего объективного обнаружения имеет еще субъективное выражение.
Сознательное действие отличается от неосознанного в самом своем объективном обнаружении: его структура иная и иное его отношение к ситуации, в которой оно совершается; оно иначе протекает.
Определение деятельности человека в отрыве от его сознания так же невозможно, как определение его сознания в отрыве от тех реальных отношений, которые устанавливаются в деятельности.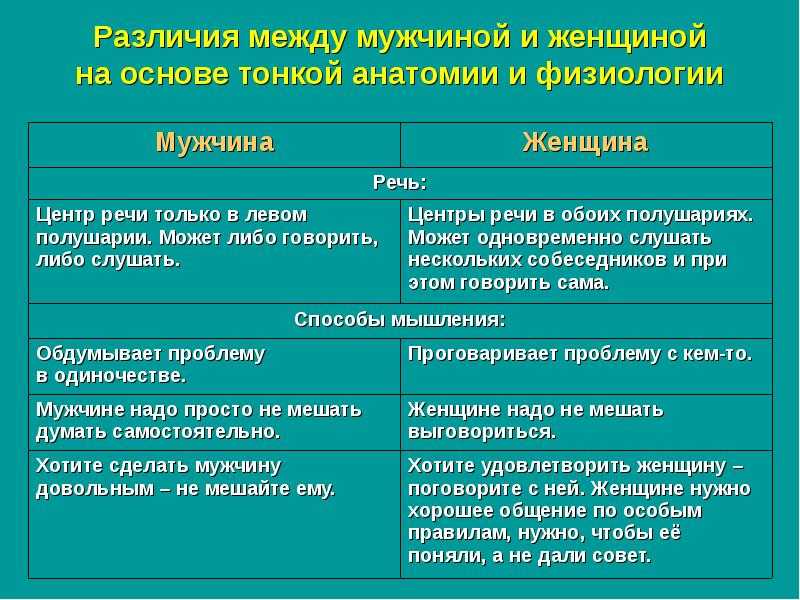 Так же как явление сознания не может быть однозначно определено вне своего отношения к предмету, так и акт поведения не может быть однозначно определен вне своего отношения к сознанию.
Одни и те же движения могут означать различные поступки, и различные движения — один и тот же поступок.
Внешняя сторона поведения не определяет его однозначно, потому что акт деятельности сам является единством внешнего и внутреннего, а не только внешним фактом, который лишь внешним образом соотносится с сознанием.
Акт человеческой деятельности — это сложное образование, которое, не будучи только психическим процессом, выходя за пределы психологии в области физиологии, социологии и т.
д.
, внутри себя включает психологические компоненты.
Учет этих психологических компонентов является необходимым условием раскрытия закономерностей поведения.
Бихевиористское понимание поведения должно быть так же радикально преодолено, как и интроспективное понимание сознания.
Поведение человека не сводится к простой совокупности реакций, оно включает систему более или менее сознательных действий или поступков.
Так же как явление сознания не может быть однозначно определено вне своего отношения к предмету, так и акт поведения не может быть однозначно определен вне своего отношения к сознанию.
Одни и те же движения могут означать различные поступки, и различные движения — один и тот же поступок.
Внешняя сторона поведения не определяет его однозначно, потому что акт деятельности сам является единством внешнего и внутреннего, а не только внешним фактом, который лишь внешним образом соотносится с сознанием.
Акт человеческой деятельности — это сложное образование, которое, не будучи только психическим процессом, выходя за пределы психологии в области физиологии, социологии и т.
д.
, внутри себя включает психологические компоненты.
Учет этих психологических компонентов является необходимым условием раскрытия закономерностей поведения.
Бихевиористское понимание поведения должно быть так же радикально преодолено, как и интроспективное понимание сознания.
Поведение человека не сводится к простой совокупности реакций, оно включает систему более или менее сознательных действий или поступков. Сознательное действие отличается от реакции иным отношением к объекту.
Для реакции предмет есть лишь раздражитель, т.
е.
внешняя причина или толчок, ее вызывающий.
Действие — это сознательный акт деятельности, который направляется на объект.
Реакция преобразуется в сознательное действие по мере того, как формируется предметное сознание.
Действие, далее, становится поступком по мере того, как и отношение действия к действующему субъекту, к самому себе и к другим людям как субъектам, поднявшись в план сознания, т.
е.
превратившись в сознательное отношение, начинает регулировать действие.
Поступок отличается от действия иным отношением к субъекту.
Действие становится поступком по мере того, как формируется самосознание.
Генезис поступка и самосознания — это сложный, обычно внутренне противоречивый, но единый процесс, так же единым процессом является генезис действия как сознательной операции и генезис самого предметного сознания.
Различные уровни и типы сознания означают вместе с тем и различные уровни или типы поведения (реакция, сознательное действие, поступок).
Сознательное действие отличается от реакции иным отношением к объекту.
Для реакции предмет есть лишь раздражитель, т.
е.
внешняя причина или толчок, ее вызывающий.
Действие — это сознательный акт деятельности, который направляется на объект.
Реакция преобразуется в сознательное действие по мере того, как формируется предметное сознание.
Действие, далее, становится поступком по мере того, как и отношение действия к действующему субъекту, к самому себе и к другим людям как субъектам, поднявшись в план сознания, т.
е.
превратившись в сознательное отношение, начинает регулировать действие.
Поступок отличается от действия иным отношением к субъекту.
Действие становится поступком по мере того, как формируется самосознание.
Генезис поступка и самосознания — это сложный, обычно внутренне противоречивый, но единый процесс, так же единым процессом является генезис действия как сознательной операции и генезис самого предметного сознания.
Различные уровни и типы сознания означают вместе с тем и различные уровни или типы поведения (реакция, сознательное действие, поступок).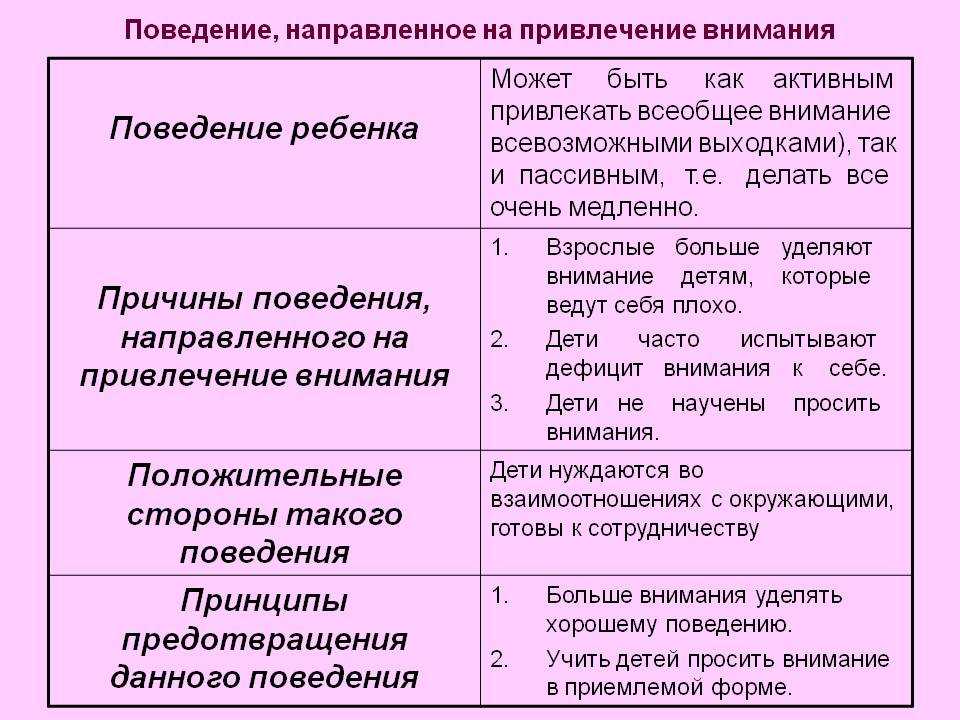
Ступени в развитии сознания означают изменения внутренней природы действия или актов поведения, а изменение внутренней природы есть вместе с тем и изменение психологических закономерностей их внешнего объективного протекания.
Поэтому структура сознания принципиально может быть определена по внешнему, объективному протеканию действия.
Преодоление бихевиористской концепции поведения является вместе с тем и преодолением интроспективной концепции сознания.
Наша психология включает, таким образом, в область своего изучения и определенный, а именно психологический аспект или сторону деятельности или поведения.
Путь нашей психологии не может заключаться в том, чтобы вернуться к изучению психики, оторванной от деятельности, существующей в замкнутом внутреннем мире.
Ошибка поведенческой психологии заключалась не в том, что она и в психологии хотела изучать человека в деятельности, а в том, как она понимала эту деятельность, и в том, что она хотела деятельность человека в целом подчинить закономерностям биологизированной психологии. Психология не изучает поведение в целом, но она изучает психологические особенности деятельности.
Наше понимание деятельности, психологические особенности которой изучает психология, при этом так же радикально отличается от механистического понимания поведения, как наше понимание психики от ее субъективно — идеалистической трактовки.
Решение вопроса не может заключаться в том, чтобы дать «синтез» одной и другой концепции.
Такой «синтез», поскольку он утверждал бы, что нужно изучать и деятельность и сознание, объективное обнаружение поведения и, помимо того, его субъективное выражение, фактически неизбежно привел бы к объединению механистического понимания деятельности с идеалистическим пониманием сознания.
Подлинного единства сознания и поведения, внутренних и внешних проявлений можно достигнуть не внешним, механическим объединением интроспективного идеалистического учения о сознании и механистического бихевиористского учения о поведении, а лишь радикальным преодолением как одного, так и другого.
Психология не изучает поведение в целом, но она изучает психологические особенности деятельности.
Наше понимание деятельности, психологические особенности которой изучает психология, при этом так же радикально отличается от механистического понимания поведения, как наше понимание психики от ее субъективно — идеалистической трактовки.
Решение вопроса не может заключаться в том, чтобы дать «синтез» одной и другой концепции.
Такой «синтез», поскольку он утверждал бы, что нужно изучать и деятельность и сознание, объективное обнаружение поведения и, помимо того, его субъективное выражение, фактически неизбежно привел бы к объединению механистического понимания деятельности с идеалистическим пониманием сознания.
Подлинного единства сознания и поведения, внутренних и внешних проявлений можно достигнуть не внешним, механическим объединением интроспективного идеалистического учения о сознании и механистического бихевиористского учения о поведении, а лишь радикальным преодолением как одного, так и другого.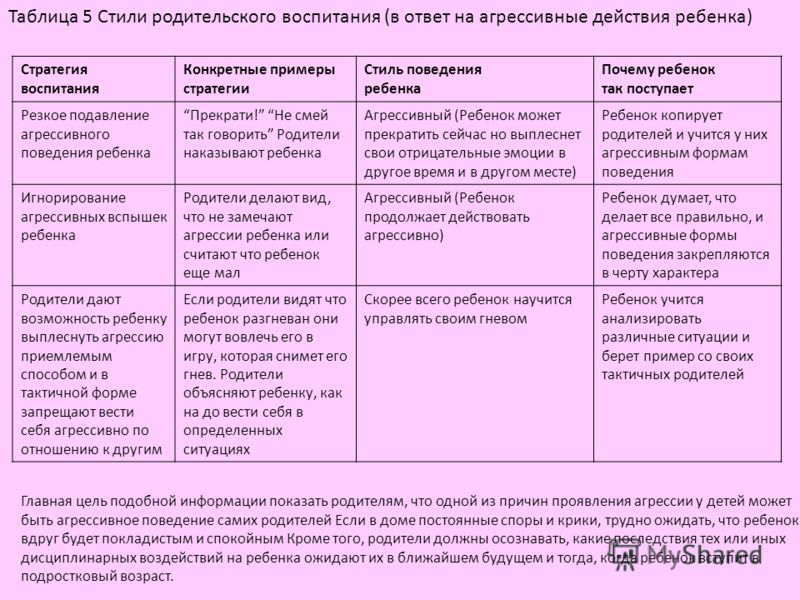
Единство сознания и поведения, внутреннего и внешнего бытия человека раскрывается для нас в самом их содержании.
Всякое переживание субъекта всегда и неизбежно является, как мы видим, переживанием чего — то и знанием о чем — то.
Самая внутренняя его природа определяется опосредованно через отношение его к внешнему, объективному миру.
Я не могу сказать, что я переживаю, не соотнеся своего переживания с объектом, на который оно направлено.
Внутреннее, психическое неопределимо вне соотнесения с внешним, объективным.
С другой стороны, анализ поведения показывает, что внешняя сторона акта не определяет его однозначно.
Природа человеческого поступка определяется заключенным в нем отношением человека к человеку и окружающему его миру, составляющим его внутреннее содержание, которое выражается в его мотивах и целях.
Поэтому не приходится соотносить поведение как нечто лишь внешнее с сознанием как чем — то лишь внутренним; поведение само уже представляет собою единство внешнего и внутреннего, так же как, с другой стороны, всякий внутренний процесс в определенности своего предметно — смыслового содержания представляет собой единство внутреннего и внешнего, субъективного и объективного.
Таким образом, единство сознания и деятельности или поведения основывается на единстве сознания и действительности или бытия, объективное содержание которого опосредует сознание, на единстве субъекта и объекта. Одно и то же отношение к объекту обусловливает и сознание и поведение, одно — в идеальном, другое — в материальном плане. Этим в самой основе своей преодолевается традиционный картезианский дуализм.
С. Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. СПб., 1998.
Действие и деятельность. — Шпаргалка
Де́ятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый смысл. Деятельность характеризует сознательную сторону личности человека (в отличие от поведения).
ДЕЙСТВИЕ
— произвольная преднамеренная опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели.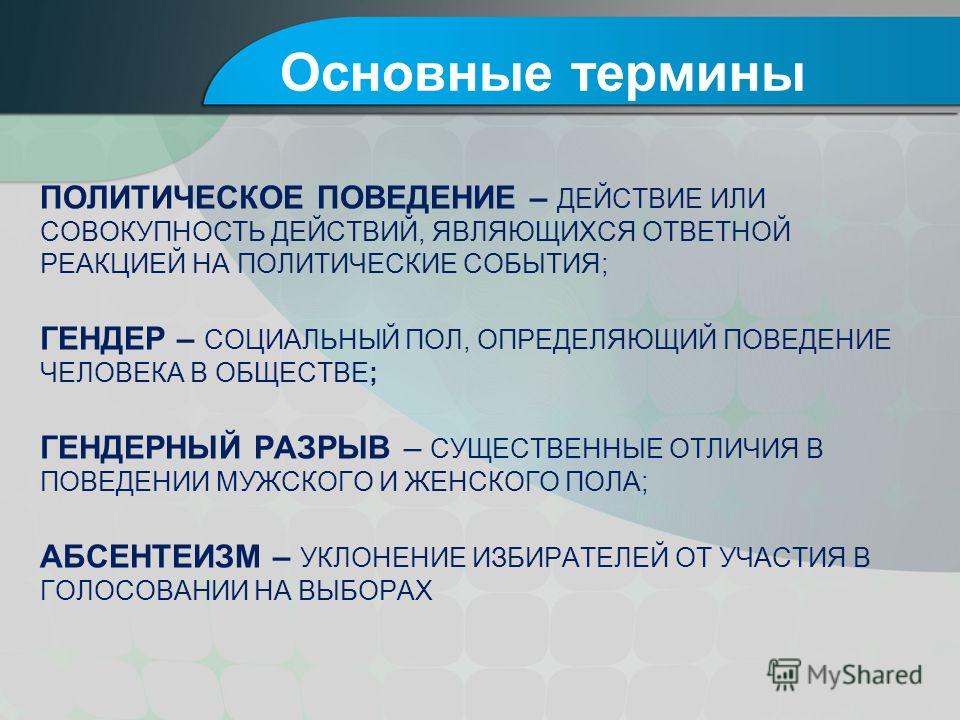 Главная структурная единица деятельности. Определяется как процесс, направленный на достижение цели. Действие выполняется на основе определенных способов, соотносимых с конкретной ситуацией, — с условиями; эти способы — неосознаваемые или мало осознаваемые — называются операциями и представляют более низкий уровень в структуре деятельности. Итак, действие — совокупность операций, подчиненных цели. Инициация действий — лишь последний этап трехстадийной последовательности.
Главная структурная единица деятельности. Определяется как процесс, направленный на достижение цели. Действие выполняется на основе определенных способов, соотносимых с конкретной ситуацией, — с условиями; эти способы — неосознаваемые или мало осознаваемые — называются операциями и представляют более низкий уровень в структуре деятельности. Итак, действие — совокупность операций, подчиненных цели. Инициация действий — лишь последний этап трехстадийной последовательности.
Деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. В деятельности человек создает предметы материальной и духовной культуры, преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество, создает то, что без его активности не существовало в природе. Творческий характер человеческой деятельности проявляется в том, что благодаря ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, т. е. превосходит свои же генотипически обусловленные возможности. Вследствие продуктивного, творческого характера своей деятельности человек создал знаковые системы, орудия воздействия на себя и природу. Пользуясь этими орудиями, он построил современное общество, города, машины, с их помощью произвел на свет новые предметы потребления, материальную и духовную культуру и в конечном счете преобразовал самого себя. Исторический прогресс, имевший место за последние несколько десятков тысяч лет, обязан своим происхождением именно деятельности, а не совершенствованию биологической природы людей.
е. превосходит свои же генотипически обусловленные возможности. Вследствие продуктивного, творческого характера своей деятельности человек создал знаковые системы, орудия воздействия на себя и природу. Пользуясь этими орудиями, он построил современное общество, города, машины, с их помощью произвел на свет новые предметы потребления, материальную и духовную культуру и в конечном счете преобразовал самого себя. Исторический прогресс, имевший место за последние несколько десятков тысяч лет, обязан своим происхождением именно деятельности, а не совершенствованию биологической природы людей.
Современный человек живет в окружении таких предметов, ни один из которых не является чистым творением природы. Ко всем таким предметам, особенно на работе и в быту, оказались в той или иной степени приложенными руки и разум человека, так что их можно считать материальным воплощением человеческих способностей. В них как бы опредмечены достижения разума людей. Усвоение способов обращения с такими предметами, включение их в деятельность выступает как собственное развитие человека.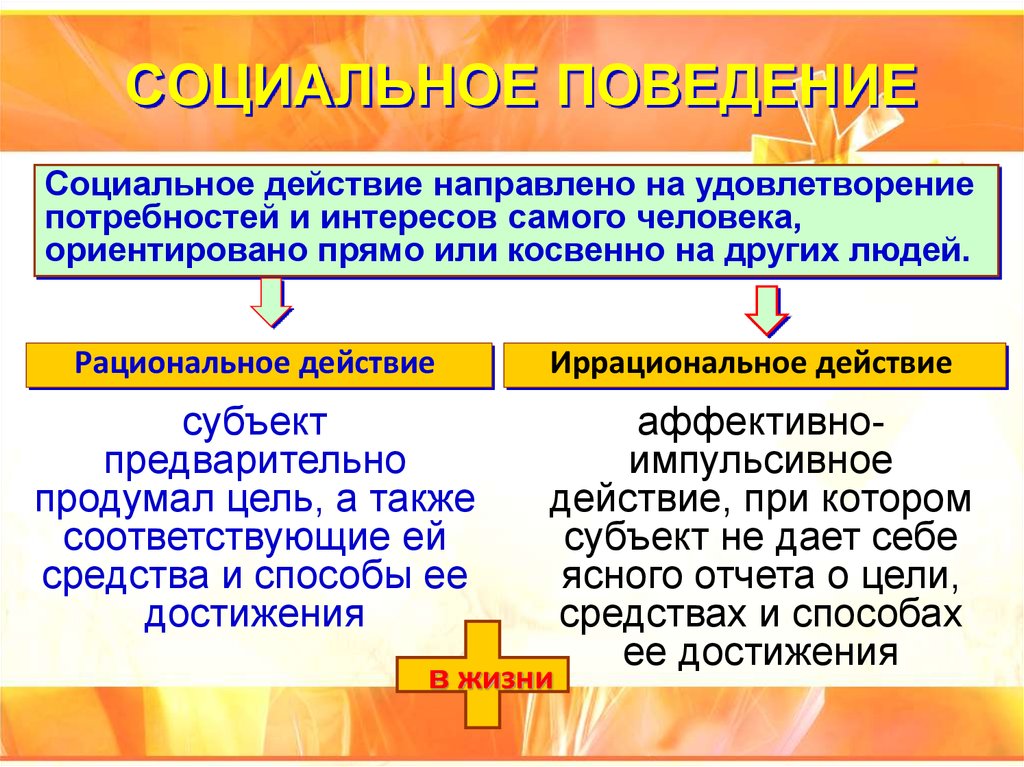 Всем этим человеческая деятельность отличается от активности животных, которые не производят ни чего подобного: ни одежды, ни мебели, ни машин, ни знаковых систем, ни орудий труда, ни средств передвижения и многого другого. Для удовлетворения своих потребностей животные пользуются только тем, что им предоставила природа.
Всем этим человеческая деятельность отличается от активности животных, которые не производят ни чего подобного: ни одежды, ни мебели, ни машин, ни знаковых систем, ни орудий труда, ни средств передвижения и многого другого. Для удовлетворения своих потребностей животные пользуются только тем, что им предоставила природа.
Иными словами, деятельность человека проявляется и продолжается в творениях, она носит продуктивный, а не только потребительский характер.
Породив и продолжая совершенствовать предметы творения, человек кроме способностей развивает свои потребности. Оказавшись связанным с предметами материальной и духовной культуры, потребности людей приобретают культурный характер.
Деятельность человека принципиально отличается от активности животных и в другом отношении. Если активность животных вызвана естественными потребностями, то деятельность человека в основном порождается и поддерживается искусственными потребностями, возникающими благодаря присвоению достижений культурно-исторического развития людей настоящего и предшествующих поколений.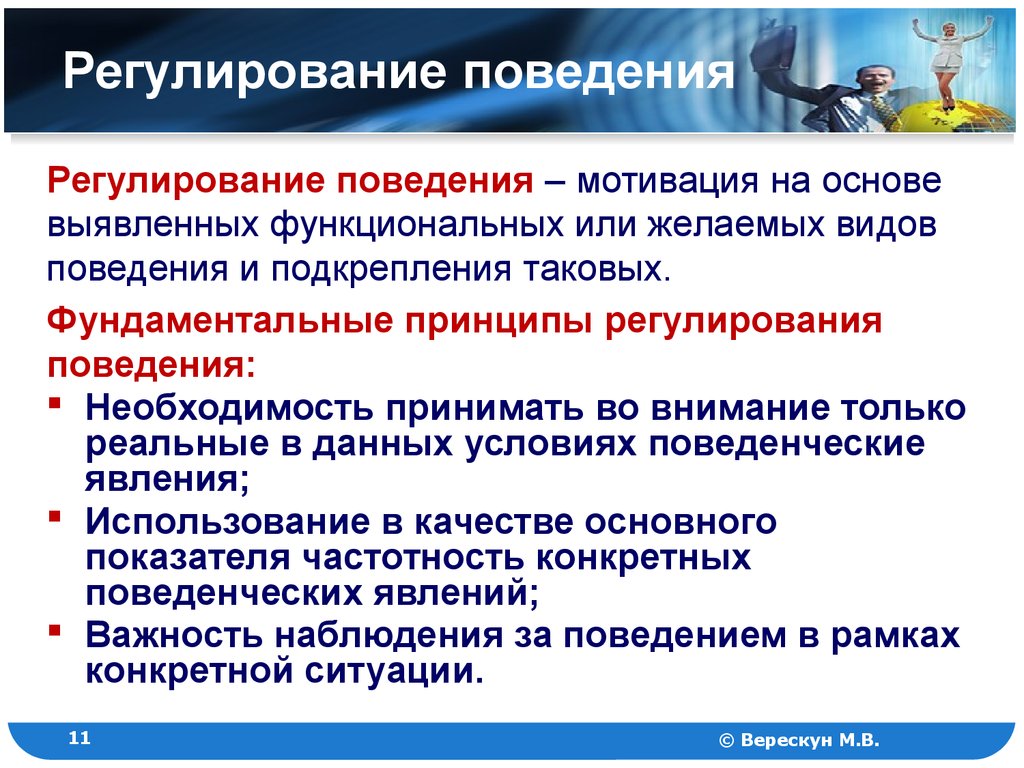 Это потребности в познании (научном и художественном), творчестве, в нравственном самосовершенствование и другие.
Это потребности в познании (научном и художественном), творчестве, в нравственном самосовершенствование и другие.
Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней обычно выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности.
Действием называют часть деятельности, имеющую вполне осознанную человечеком цель. Например, действием, включенным в структуру познавательной деятельности, можно назвать получение книги, ее чтение; действиями, входящими в состав трудовой деятельности, можно считать знакомство с задачей, поиск необходимых инструментов и материалов, разработку проекта, технологии изготовления предмета и т.п.; действиями, связанными с творчеством, являются формулировка замысла,поэтапная его реализация в продукте творческой работы.
Операцией именуют способ осуществления действия. Сколько есть различных способов выполнения действия, столько можно выделить различных операций. Характер операций зависит от условия выполнения действия, от имеющихся у человека умений и навыков, от наличия инструментов и средств осуществления действия.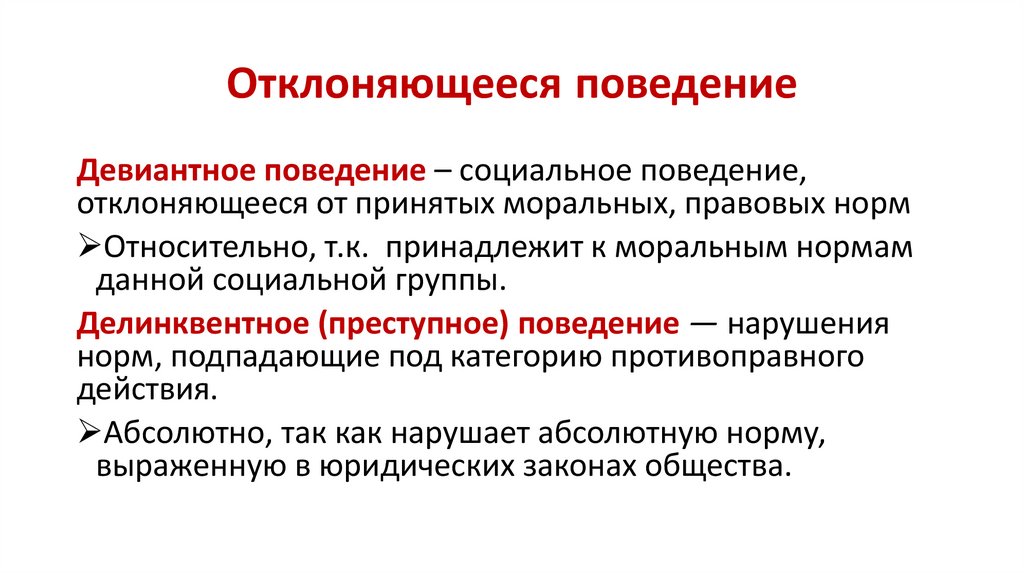 Разные люди, к примеру, запоминают информацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию текста или запоминанию материала они осуществляют при помощи различных операций. Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности.
Разные люди, к примеру, запоминают информацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию текста или запоминанию материала они осуществляют при помощи различных операций. Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Реферат
Действие и деятельность.
От 250 руб
Контрольная работа
Действие и деятельность.
От 250 руб
Курсовая работа
Действие и деятельность.
От 700 руб
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимость
Профилактика асоциального поведения подрастающего поколения
На современном этапе, проблема здоровья подрастающего поколения является одной из самых актуальных для современного общества.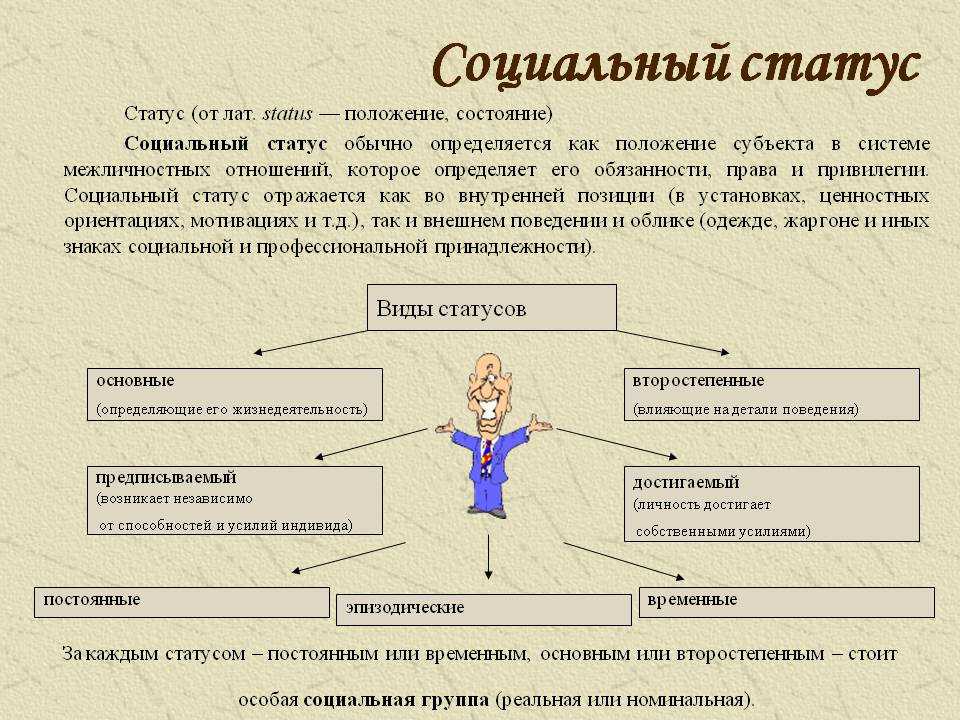 Здоровье складывается из нескольких компонентов: психическое, физическое, социальное, нравственное.
Здоровье складывается из нескольких компонентов: психическое, физическое, социальное, нравственное.
Асоциальное поведение — поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или противоправных деяний. В условиях кризиса современного общества и изменения моральных и ценностных установок возросло число подростков, склонных к асоциальному поведению, поэтому проблема профилактики асоциального поведения детей и подростков становится все более значимой.
Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальных структур. Сотрудничество школы и семьи должно создавать комфортные, адекватные условия для развития школьников.
Нормальное «здоровое» поведение у подростка подразумевает под собой взаимодействие подростка с социумом, с окружающими людьми, адекватным потребностям в жизни и его возможность гармоничной социализации в обществе.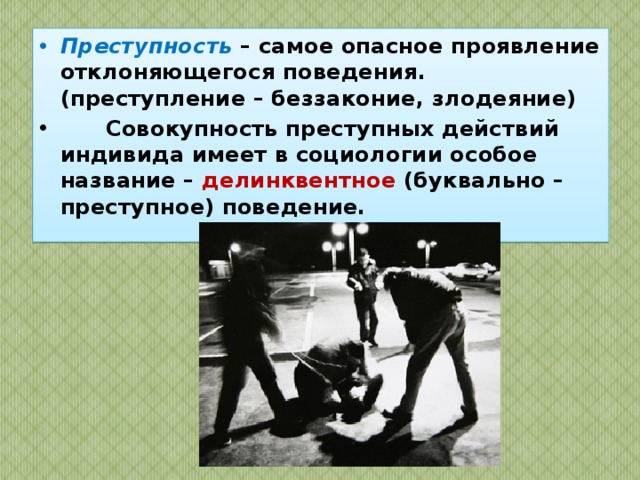 Под нормой принято понимать явление, носящее групповой характер. Такие нормы позволяют уравновешивать поведения людей, приводить или хотя бы стремиться к гармонизации между взаимоотношениями субъектов общественной жизни. Существует различное количество норм: психологические, этические, моральные, нравственные, правовые, социальные и т.д. Как правило, подросток, характеризующийся асоциальным поведением, имеет определенные личностные особенности: несдержанность и агрессивность; склонность к межличностным конфликтам; упрямство; нежелание подчиняться общепринятым правилам поведения; трудности социальной адаптации.
Под нормой принято понимать явление, носящее групповой характер. Такие нормы позволяют уравновешивать поведения людей, приводить или хотя бы стремиться к гармонизации между взаимоотношениями субъектов общественной жизни. Существует различное количество норм: психологические, этические, моральные, нравственные, правовые, социальные и т.д. Как правило, подросток, характеризующийся асоциальным поведением, имеет определенные личностные особенности: несдержанность и агрессивность; склонность к межличностным конфликтам; упрямство; нежелание подчиняться общепринятым правилам поведения; трудности социальной адаптации.
Асоциальное поведение подростков может выражаться в следующих формах:
Девиантное поведение (отклоняющееся поведение) является отклонением асоциального поведения подростков, которое имеет связь с нарушением соответствующих возрасту подростка социальных норм и устоявшихся правил поведения, свойственных в семейных, школьных отношениях. Чаще всего проявляется в форме агрессии, нежелании учиться, демонстрации своего негатива близкому окружению. Также такое поведение может сопровождаться уходами из дома, бродяжничеством и даже попыткой свести счеты с жизнью. Подростки могут уйти в запой, начать принимать наркотические средства, а также такое поведение проявляется в действиях сексуального характера (стремление к изнасилованию).
Также такое поведение может сопровождаться уходами из дома, бродяжничеством и даже попыткой свести счеты с жизнью. Подростки могут уйти в запой, начать принимать наркотические средства, а также такое поведение проявляется в действиях сексуального характера (стремление к изнасилованию).
— В асоциальных поступках, которые уже сложились в какой-то своеобразный устойчивый стереотип поведения у подростка, влекущее нарушение общественного порядка. Такое поведение может остаться безнаказанным из-за отсутствия значительной общественной опасности или не достижения возраста преследования к уголовной ответственности. Чаще всего психологи замечают проявления в таком поведение в виде оскорблений, побоев, поджогах, вымогательстве, мелких кражах.
Аддиктивное поведение – такое поведение характеризуется бегством от существующих проблем, ухода «в свой мир». Это может сопровождаться бегством в тело (булимия, анорексия), бегством в работу (трудоголизм), бегством в фантазии (компьютерные игры), бегством в религию, секс, наркотики, суицидальные наклонности у подростка.
Чаще всего к асоциальному поведению подростков призывают сложившиеся вокруг него социальные факторы, например,: трудности в общении со сверстниками, принадлежность к неформальным субкультурам, неуверенность в своей личности, низкая самооценка, неблагополучная семья, перенесенное насилие и т.д.
Статистически выведено психолагами, что чаще всего такое поведение возникает у подростков в семьях которых:
имеются психические отклонения или другие заболевания, последствия после болезней;
пристрастия к наркомании, алкоголизму, асоциальному поведению в обществе;
во взаимоотношениях между родителями существует неуважение друг к другу, враждебность к детям, невнимание;
нехватка отцовского воспитания по отношению к подростку;
имеют авторитарный способ воспитания, или, наоборот, наблюдается чрезмерная опека над подростком.
Профилактические мероприятия в учебных заведениях:
1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, по вопросам асоциального поведения, является важным компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения.
Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, по вопросам асоциального поведения, является важным компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения.
2. Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.
По этой причине борьба с прогулами должна быть включена в общешкольную Программу профилактики правонарушений.
3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, художественное творчество, кружковую работу — одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения.
4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные дети испытывают:
Исследования ученых показали, что современные дети испытывают:
потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни;
озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих будущих детей, так и здоровья всей России;
потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья;
готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и продлению человеческой жизни.
К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, экологов, спортсменов), но и широко использовать детский потенциал, озабоченность перспективой своего будущего здоровья и организовать самих учащихся на реализацию этой программы. Создавать волонтерские группы, участвующие в этой работе.
В пропаганде здорового образа жизни полезно использовать такие мероприятия:
беседы медработников по проблемам, которые выбрали в качестве приоритета сами учащиеся;
– беседа, дискуссия, диспут, мозговой штурм, подготовленные при поддержке классного руководителя самими учениками;
– встречи с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют преимущества здорового образа жизни;
– «уроки здоровья», с обсуждением видеофильма или фрагментов фильмов, записей телепередач.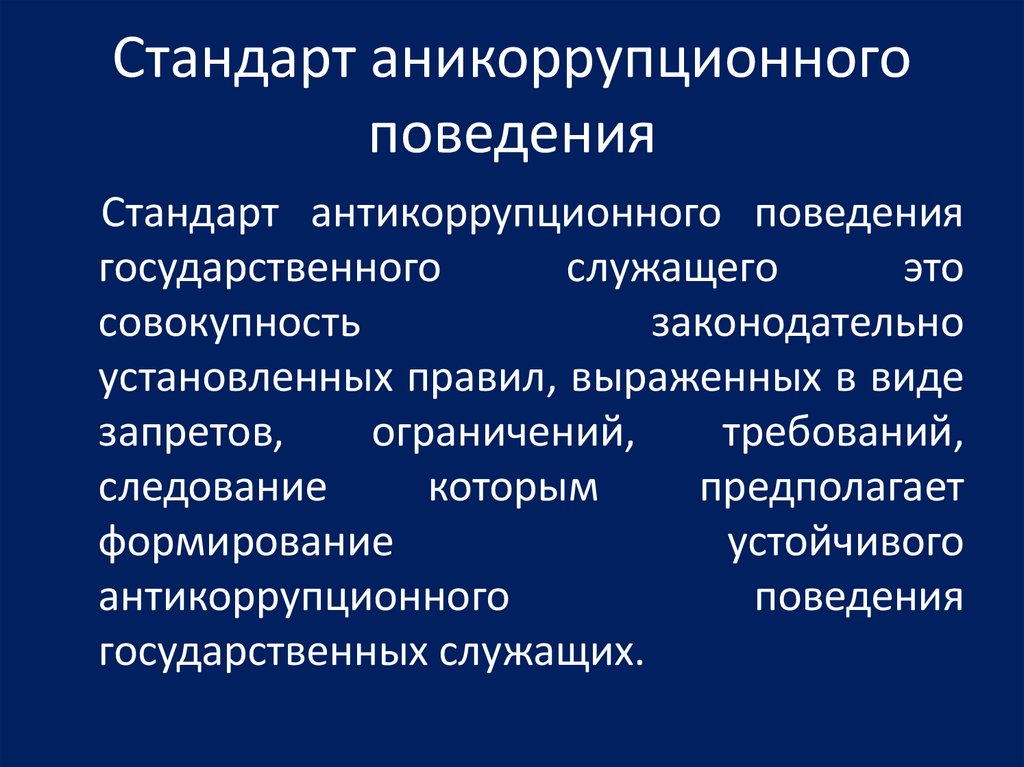
В беседах с детьми следует, помимо традиционных тем: наркомании, ВИЧ-инфекции, гепатиты, алкоголизм, обратить внимание на такие проблемы, как:
преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков;
милосердие, доброта и здоровье;
природа и здоровье;
любовь и здоровье;
здоровье и успешная карьера;
мода и здоровье;
фигура и здоровье;
спорт и здоровье;
компьютерные игры и здоровье;
5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды. На родительских собраниях следует информировать об административной и уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц их заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми. .
.
6. Профилактика наркомании и токсикомании. Необходимо планировать и проводить работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. Следует консолидировать усилия в этом направлении с органами милиции и здравоохранения, родительской общественностью.
Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-педагогическая программа должна быть представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием обучающегося в целях коррекции отклоняющегося поведения, социализации и развития личности конкретного школьника с девиантным поведением.
Понаблюдайте за поведением своего ребенка, и если есть первичные признаки для беспокойства, обратитесь к специалисту-психологу. Не стоит запускать ситуацию!
Гены управляют поведением, а поведение — генами
Журнал Science опубликовал серию обзорных и теоретических статей, посвященных взаимосвязи генов и поведения. Последние данные генетики и нейробиологии указывают на сложность и неоднозначность этой взаимосвязи.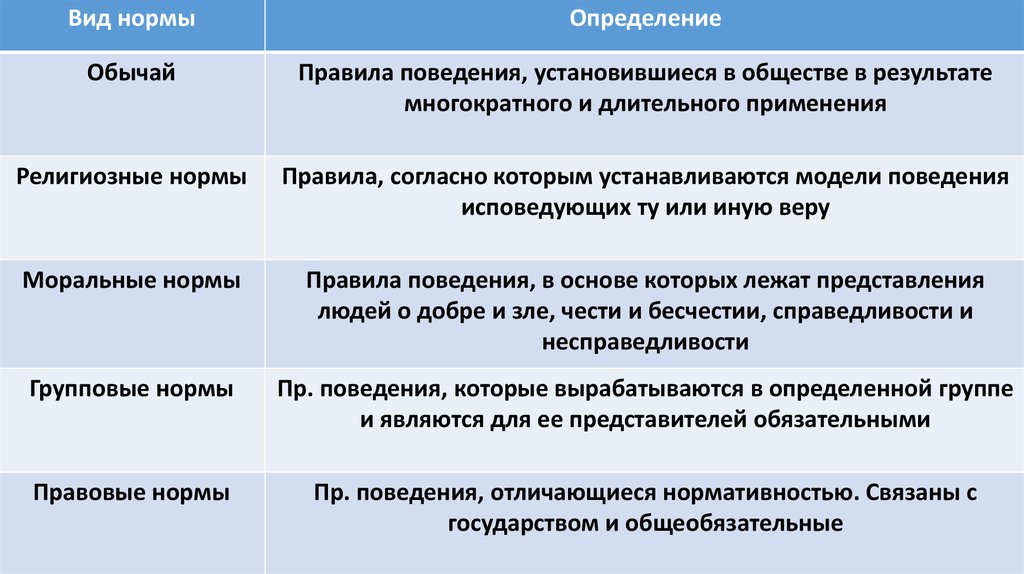 Гены влияют даже на такие сложные аспекты человеческого поведения, как семейные и общественные взаимоотношения и политическая деятельность. Однако существует и обратное влияние поведения на работу генов и их эволюцию.
Гены влияют даже на такие сложные аспекты человеческого поведения, как семейные и общественные взаимоотношения и политическая деятельность. Однако существует и обратное влияние поведения на работу генов и их эволюцию.
Гены влияют на наше поведение, но их власть не безгранична
Хорошо известно, что поведение во многом зависит от генов, хотя о строгом детерминизме в большинстве случаев говорить не приходится. Генотип определяет не поведение как таковое, а скорее общее принципы построения нейронных контуров, отвечающих за обработку поступающей информации и принятие решений, причем эти «вычислительные устройства» способны к обучению и постоянно перестраиваются в течение жизни. Отсутствие четкого и однозначного соответствия между генами и поведением вовсе не противоречит тому факту, что определенные мутации могут менять поведение вполне определенным образом. Однако необходимо помнить, что каждый поведенческий признак определяется не одним-двумя, а огромным множеством генов, работающих согласованно.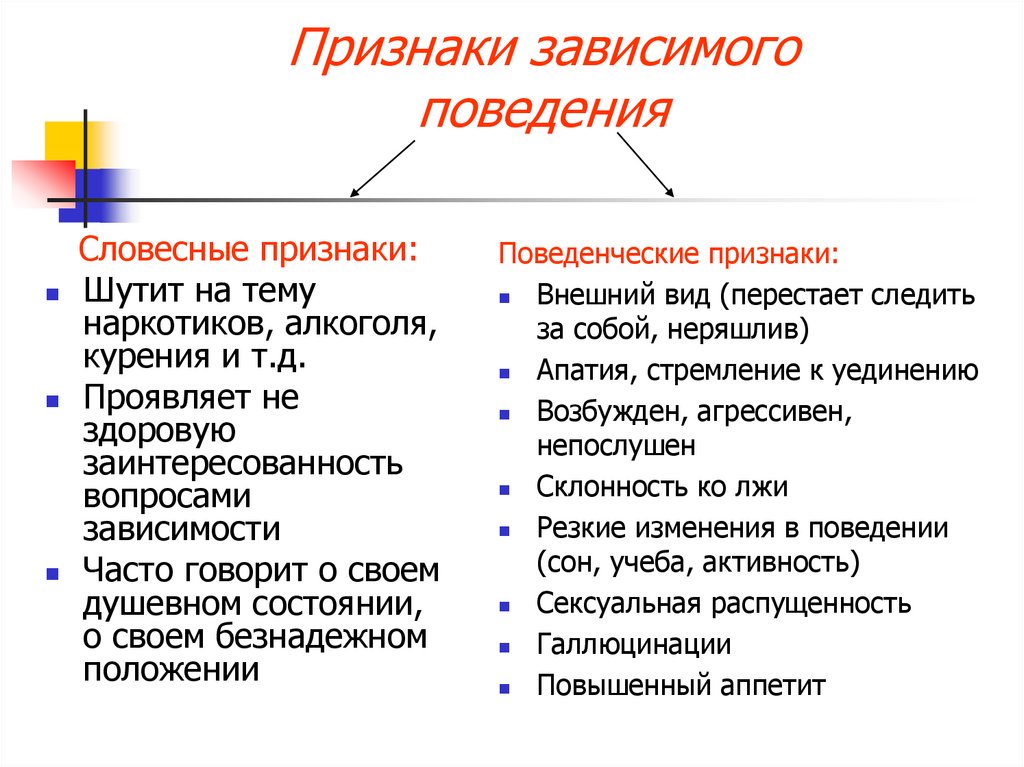 Например, если обнаруживается, что мутация в каком-то гене приводит к потере дара речи, это не значит, что «ученые открыли ген речи». Это значит, что они открыли ген, который наряду с множеством других генов необходим для нормального развития нейронных структур, благодаря которым человек может научиться разговаривать.
Например, если обнаруживается, что мутация в каком-то гене приводит к потере дара речи, это не значит, что «ученые открыли ген речи». Это значит, что они открыли ген, который наряду с множеством других генов необходим для нормального развития нейронных структур, благодаря которым человек может научиться разговаривать.
Этот круг тем составляет предмет генетики поведения. В обзорных статьях, опубликованных в последнем номере журнала Science, приведен ряд ярких примеров того, как изменения отдельных генов могут радикально менять поведение. Например, еще в 1991 году было показано, что, если пересадить небольшой фрагмент гена period от мухи Drosophila simulans другому виду мух (D. melanogaster), трансгенные самцы второго вида начинают во время ухаживания исполнять брачную песенку D. simulans.
Другой пример — ген for, от которого зависит активность поиска пищи у насекомых. Ген был впервые найден у дрозофилы: мухи с одним вариантом этого гена ищут корм активнее, чем носители другого варианта. Тот же самый ген, как выяснилось, регулирует пищевое поведение пчел. Правда, тут уже играют роль не различия в структуре гена, а активность его работы (см. ниже): у пчел, собирающих нектар, ген for работает активнее, чем у тех, кто заботится о молоди в улье. Как получилось, что один и тот же ген сходным образом влияет на поведение у столь разных насекомых, имеющих совершенно разный уровень интеллектуального развития? Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Ниже мы столкнемся и с другими примерами удивительного эволюционного консерватизма (устойчивости, неизменности) молекулярных механизмов регуляции поведения.
Тот же самый ген, как выяснилось, регулирует пищевое поведение пчел. Правда, тут уже играют роль не различия в структуре гена, а активность его работы (см. ниже): у пчел, собирающих нектар, ген for работает активнее, чем у тех, кто заботится о молоди в улье. Как получилось, что один и тот же ген сходным образом влияет на поведение у столь разных насекомых, имеющих совершенно разный уровень интеллектуального развития? Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Ниже мы столкнемся и с другими примерами удивительного эволюционного консерватизма (устойчивости, неизменности) молекулярных механизмов регуляции поведения.
Эффект Болдуина: обучение направляет эволюцию
Взаимоотношения между генами и поведением вовсе не исчерпываются однонаправленным влиянием первых на второе. Поведение тоже может влиять на гены, причем это влияние прослеживается как в эволюционном масштабе времени, так и на протяжении жизни отдельного организма.
Изменившееся поведение может вести к изменению факторов отбора и, соответственно, к новому направлению эволюционного развития.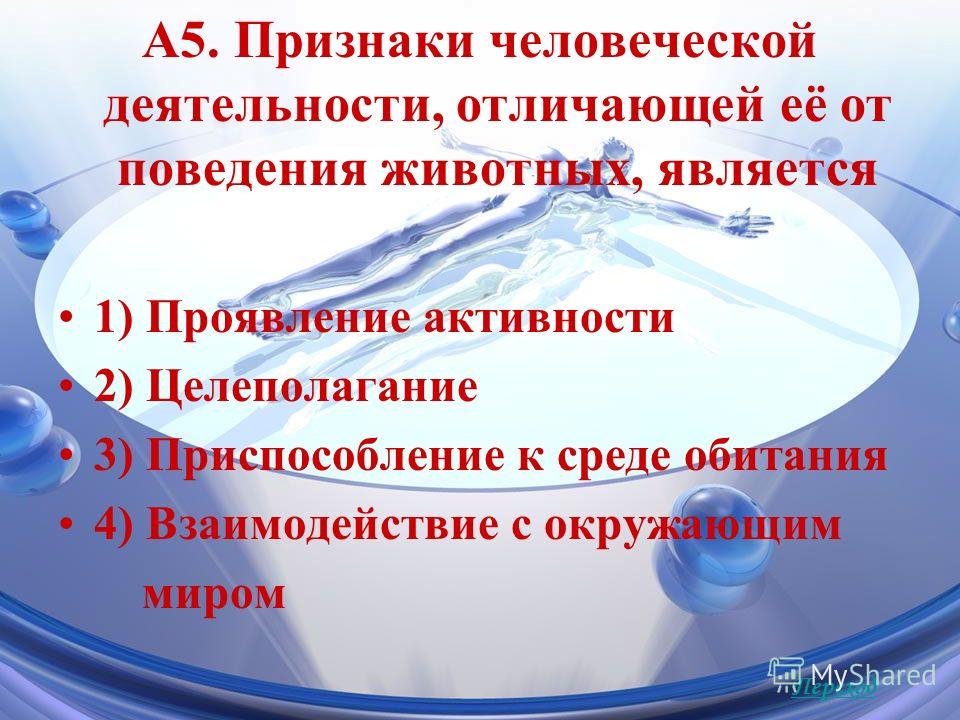 Данное явление известно как «эффект Болдуина» (Baldwin effect) — по имени американского психолога Джеймса Болдуина, который впервые выдвинул эту гипотезу в 1896 году. Например, если появился новый хищник, от которого можно спастись, забравшись на дерево, жертвы могут научиться залезать на деревья, не имея к этому врожденной (инстинктивной) предрасположенности. Сначала каждая особь будет учиться новому поведению в течение жизни. Если это будет продолжаться достаточно долго, те особи, которые быстрее учатся залезать на деревья или делают это более ловко в силу каких-нибудь врожденных вариаций в строении тела (чуть более цепкие лапы, когти и т. п.), получат селективное преимущество, то есть будут оставлять больше потомков. Следовательно, начнется отбор на способность влезать на деревья и на умение быстро этому учиться. Так поведенческий признак, изначально появлявшийся каждый раз заново в результате прижизненного обучения, со временем может стать инстинктивным (врожденным) — изменившееся поведение будет «вписано» в генотип.
Данное явление известно как «эффект Болдуина» (Baldwin effect) — по имени американского психолога Джеймса Болдуина, который впервые выдвинул эту гипотезу в 1896 году. Например, если появился новый хищник, от которого можно спастись, забравшись на дерево, жертвы могут научиться залезать на деревья, не имея к этому врожденной (инстинктивной) предрасположенности. Сначала каждая особь будет учиться новому поведению в течение жизни. Если это будет продолжаться достаточно долго, те особи, которые быстрее учатся залезать на деревья или делают это более ловко в силу каких-нибудь врожденных вариаций в строении тела (чуть более цепкие лапы, когти и т. п.), получат селективное преимущество, то есть будут оставлять больше потомков. Следовательно, начнется отбор на способность влезать на деревья и на умение быстро этому учиться. Так поведенческий признак, изначально появлявшийся каждый раз заново в результате прижизненного обучения, со временем может стать инстинктивным (врожденным) — изменившееся поведение будет «вписано» в генотип. Лапы при этом тоже, скорее всего, станут более цепкими.
Лапы при этом тоже, скорее всего, станут более цепкими.
Другой пример: распространение мутации, позволяющей взрослым людям переваривать молочный сахар лактозу, произошло в тех человеческих популяциях, где вошло в обиход молочное животноводство. Изменилось поведение (люди стали доить коров, кобыл, овец или коз) — и в результате изменился генотип (развилась наследственная способность усваивать молоко в зрелом возрасте).
Эффект Болдуина поверхностно схож с ламарковским механизмом наследования приобретенных признаков (результатов упражнения или неупражнения органов), но действует он вполне по-дарвиновски: через изменение вектора естественного отбора. Данный механизм очень важен для понимания эволюции. Например, из него следует, что по мере роста способности к обучению эволюция будет выглядеть всё более «целенаправленной» и «осмысленной». Он также позволяет предсказать, что в развитии интеллекта может возникнуть положительная обратная связь: чем выше способность к обучению, тем выше вероятность, что начнется отбор на еще большую способность к обучению.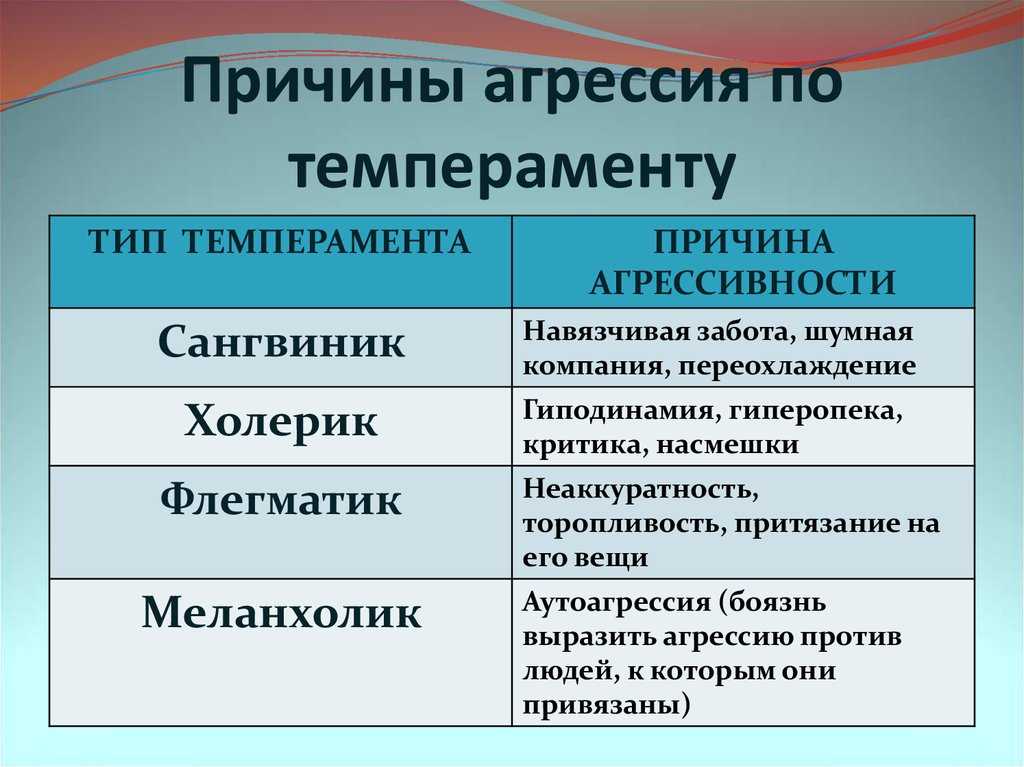
Социальное поведение влияет на работу генов
Поведение влияет также и на работу генов в течение жизни организма. Эта тема подробно развивается в статье Джина Робинсона (Gene E. Robinson) из Иллинойсского университета (University of Illinois at Urbana-Champaign) с соавторами. В работе рассматривается взаимосвязь между генами и социальным поведением животных, причем особое внимание уделено тому, как социальное поведение (или социально-значимая информация) влияет на работу генома. Это явление начали в деталях исследовать сравнительно недавно, но ряд интересных находок уже сделан.
Когда самец зебровой амадины (Taeniopygia guttata) — птицы из семейства ткачиковых — слышит песню другого самца, у него в определенном участке слуховой области переднего мозга начинает экспрессироваться (работать) ген egr1. Этого не происходит, когда птица слышит отдельные тона, белый шум или любые другие звуки — это специфический молекулярный ответ на социально-значимую информацию.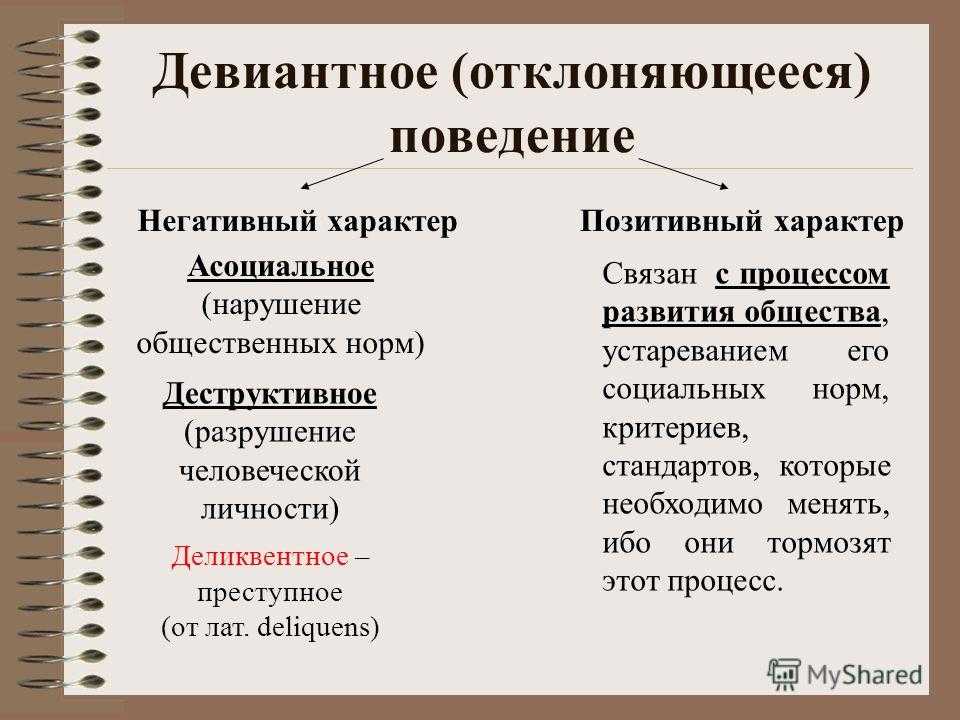
Песни незнакомых самцов вызывают более сильный молекулярно-генетический ответ, чем щебет старых знакомцев. Кроме того, если самец видит других птиц своего вида (не поющих), активация гена egr1 в ответ на звук чужой песни оказывается более выраженной, чем когда он сидит в одиночестве. Получается, что один тип социально-значимой информации (присутствие сородичей) модулирует реакцию на другой ее тип (звук чужой песни). Другие социально-значимые внешние сигналы приводят к активации гена egr1 в других участках мозга.
Как ни странно, тот же самый ген играет важную роль в социальной жизни у рыб. «Элементы» уже писали о сложной общественной жизни и недюжинных умственных способностях аквариумной рыбки Astatotilapia burtoni (см.: Рыбы обладают способностью к дедукции, «Элементы», 30.01.2007). В присутствии доминантного самца-победителя подчиненный самец блекнет и не проявляет интереса к самкам. Но стоит удалить высокорангового самца из аквариума, как подчиненный стремительно преображается, причем меняется не только его поведение, но и окраска: он начинает выглядеть и вести себя как доминант. Преображение начинается с того, что в нейронах гипоталамуса включается уже знакомый нам ген egr1. Вскоре эти нейроны начинают усиленно производить половой гормон (gonadotropin-releasing hormone, GnRH), играющий ключевую роль в размножении.
Преображение начинается с того, что в нейронах гипоталамуса включается уже знакомый нам ген egr1. Вскоре эти нейроны начинают усиленно производить половой гормон (gonadotropin-releasing hormone, GnRH), играющий ключевую роль в размножении.
Белок, кодируемый геном egr1, является транскрипционным фактором, то есть регулятором активности других генов. Характерной особенностью этого гена является то, что для его включения достаточно очень кратковременного внешнего воздействия (например, одного звукового сигнала), и включение происходит очень быстро — счет времени идет на минуты. Другая его особенность в том, что он может оказывать немедленное и весьма сильное влияние на работу многих других генов.
egr1 — далеко не единственный ген, чья работа в мозге определяется социальными стимулами. Уже сейчас понятно, что нюансы общественной жизни влияют на работу сотен генов и могут приводить к активизации сложных и многоуровневых «генных сетей».
Это явление изучают, в частности, на пчелах. Возраст, в котором рабочая пчела перестает ухаживать за молодью и начинает летать за нектаром и пыльцой, отчасти предопределен генетически, отчасти зависит от ситуации в коллективе (см.: Выявлен ген, регулирующий разделение труда у пчел, «Элементы», 13.03.2007). Если семье не хватает «добытчиков», молодые пчелы определяют это по снижению концентрации феромонов, выделяемых старшими пчелами, и могут перейти к сбору пропитания в более молодом возрасте. Выяснилось, что эти запаховые сигналы меняют экспрессию многих сотен генов в мозге пчелы, и особенно сильно влияют на гены, кодирующие транскрипционные факторы.
Возраст, в котором рабочая пчела перестает ухаживать за молодью и начинает летать за нектаром и пыльцой, отчасти предопределен генетически, отчасти зависит от ситуации в коллективе (см.: Выявлен ген, регулирующий разделение труда у пчел, «Элементы», 13.03.2007). Если семье не хватает «добытчиков», молодые пчелы определяют это по снижению концентрации феромонов, выделяемых старшими пчелами, и могут перейти к сбору пропитания в более молодом возрасте. Выяснилось, что эти запаховые сигналы меняют экспрессию многих сотен генов в мозге пчелы, и особенно сильно влияют на гены, кодирующие транскрипционные факторы.
Очень быстрые изменения экспрессии множества генов в ответ на социальные стимулы выявлены в мозге у птиц и рыб. Например, у самок рыб при контактах с привлекательными самцами в мозге активизируются одни гены, а при контактах с самками — другие.
Взаимоотношения с сородичами могут приводить и к долговременным устойчивым изменениям экспрессии генов в мозге, причем эти изменения могут даже передаваться из поколения в поколение, то есть наследоваться почти совсем «по Ламарку».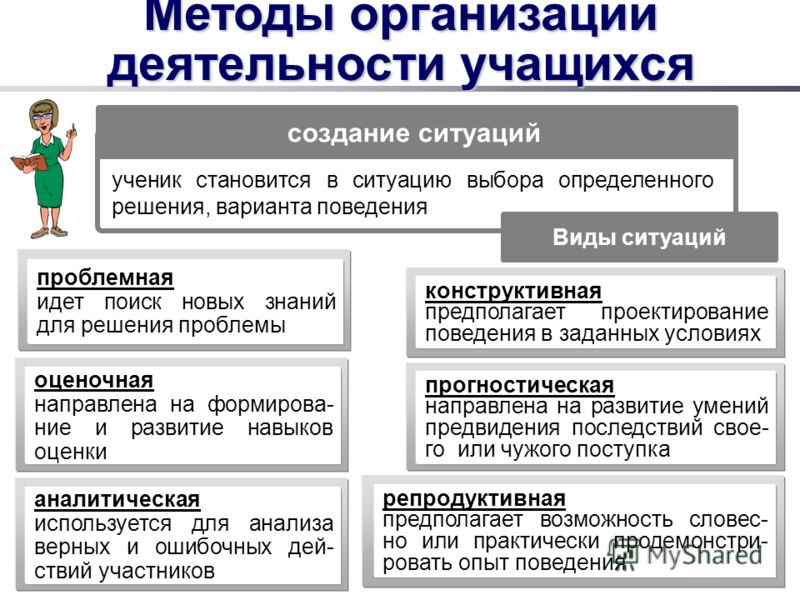 Данное явление основано на эпигенетических модификациях ДНК, например на метилировании промоторов, что приводит к долговременному изменению экспрессии генов. Было замечено, что если крыса-мать очень заботлива по отношению к своим детям, часто их вылизывает и всячески оберегает, то и ее дочери, скорее всего, будут такими же заботливыми матерями. Думали, что этот признак предопределен генетически и наследуется обычным образом, то есть «записан» в нуклеотидных последовательностях ДНК. Можно было еще предположить культурное наследование — передачу поведенческого признака от родителей к потомкам путем обучения. Однако обе эти версии оказались неверными. В данном случае работает эпигенетический механизм: частые контакты с матерью приводят к метилированию промоторов определенных генов в мозге крысят, в частности генов, кодирующих рецепторы, от которых зависит реакция нейронов на некоторые гормоны (половой гормон эстроген и гормоны стресса — глюкокортикоиды). Подобные примеры пока единичны, но есть все основания полагать, что это только верхушка айсберга.
Данное явление основано на эпигенетических модификациях ДНК, например на метилировании промоторов, что приводит к долговременному изменению экспрессии генов. Было замечено, что если крыса-мать очень заботлива по отношению к своим детям, часто их вылизывает и всячески оберегает, то и ее дочери, скорее всего, будут такими же заботливыми матерями. Думали, что этот признак предопределен генетически и наследуется обычным образом, то есть «записан» в нуклеотидных последовательностях ДНК. Можно было еще предположить культурное наследование — передачу поведенческого признака от родителей к потомкам путем обучения. Однако обе эти версии оказались неверными. В данном случае работает эпигенетический механизм: частые контакты с матерью приводят к метилированию промоторов определенных генов в мозге крысят, в частности генов, кодирующих рецепторы, от которых зависит реакция нейронов на некоторые гормоны (половой гормон эстроген и гормоны стресса — глюкокортикоиды). Подобные примеры пока единичны, но есть все основания полагать, что это только верхушка айсберга.
Взаимоотношения между генами и социальным поведением могут быть крайне сложными и причудливыми. У красных огненных муравьев Solenopsis invicta есть ген, от которого зависит число цариц в колонии. Гомозиготные рабочие с генотипом BB не терпят, когда в колонии более одной царицы, и поэтому колонии у них маленькие. Гетерозиготные муравьи Bb охотно ухаживают сразу за несколькими самками, и колонии у них получаются большие. У рабочих с разными генотипами сильно различаются уровни экспрессии многих генов в мозге. Оказалось, что если рабочие BB живут в муравейнике, где преобладают рабочие Bb, они идут на поводу у большинства и смиряют свои инстинкты, соглашаясь заботиться о нескольких царицах. При этом рисунок генной экспрессии в мозге у них становится почти таким же, как у рабочих Bb. Но если провести обратный эксперимент, то есть переселить рабочих Bb в муравейник, где преобладает генотип BB, то гости не меняют своих убеждений и не перенимают у хозяев нетерпимость к «лишним» царицам.
Таким образом, у самых разных животных — от насекомых до млекопитающих — существуют весьма сложные и иногда во многом похожие друг на друга системы взаимодействий между генами, их экспрессией, эпигенетическими модификациями, работой нервной системы, поведением и общественными отношениями. Такая же картина наблюдается и у человека.
Нейрохимия личных отношений
Взаимоотношения между людьми еще недавно казались биологам слишком сложными, чтобы всерьез исследовать их на клеточном и молекулярном уровне. Тем более что философы, теологи и гуманитарии всегда были рады поддержать подобные опасения. Да и тысячелетние культурные традиции, испокон веков населявшие эту область всевозможными абсолютами, «высшими смыслами» и прочими призраками, так просто не отбросишь.
Однако успехи, достигнутые в последние десятилетия генетиками, биохимиками и нейрофизиологами, показали, что изучение молекулярных основ нашей социальной жизни — дело вовсе не безнадежное. О первых шагах в этом направлении рассказывает статья нейробиологов из Университета Эмори (Emory University) Зои Дональдсон и Ларри Янга (Zoe R.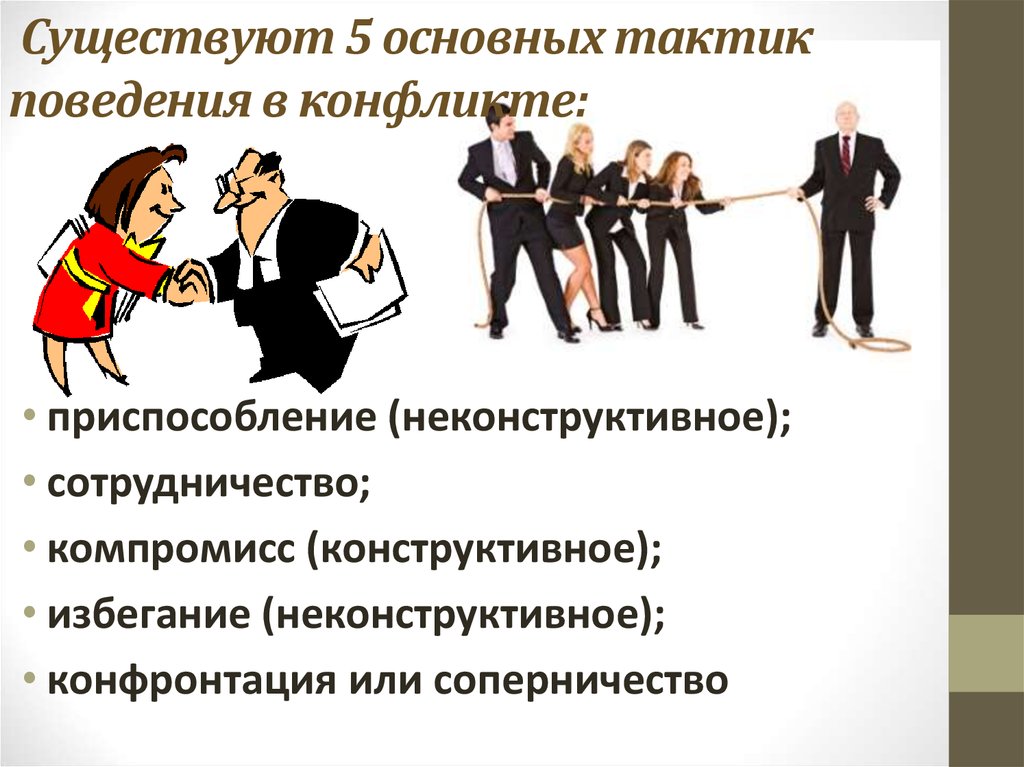 Donaldson, Larry J. Young).
Donaldson, Larry J. Young).
Одно из самых интересных открытий состоит в том, что некоторые молекулярные механизмы регуляции социального поведения оказались на редкость консервативными — они существуют, почти не меняясь, сотни миллионов лет и работают с одинаковой эффективностью как у людей, так и у других животных. Типичный пример — система регуляции социального поведения и общественных отношений с участием нейропептидов окситоцина и вазопрессина.
Эти нейропептиды могут работать и как нейромедиаторы (то есть передавать сигнал от одного нейрона другому в индивидуальном порядке), и как нейрогормоны (то есть возбуждать сразу множество нейронов, в том числе расположенных далеко от точки выброса нейропептида).
Окситоцин и вазопрессин — короткие пептиды, состоящие из девяти аминокислот, причем отличаются они друг от друга всего двумя аминокислотами. Эти или очень похожие на них (гомологичные, родственные) нейропептиды имеются чуть ли не у всех многоклеточных животных (от гидры до человека включительно), а появились они не менее 700 млн лет назад. У этих крошечных белков есть свои гены, причем у беспозвоночных имеется только один такой ген, и, соответственно, пептид, а у позвоночных — два (результат генной дупликации).
У этих крошечных белков есть свои гены, причем у беспозвоночных имеется только один такой ген, и, соответственно, пептид, а у позвоночных — два (результат генной дупликации).
У млекопитающих окситоцин и вазопрессин вырабатываются нейронами гипоталамуса. У беспозвоночных, не имеющих гипоталамуса, соответствующие пептиды вырабатываются в аналогичных (или гомологичных) нейросекреторных отделах нервной системы. Когда крысам пересадили рыбий ген изотоцина (так называется гомолог окситоцина у рыб), пересаженный ген стал работать у крыс не где-нибудь, а в гипоталамусе. Это значит, что не только сами нейропептиды, но и системы регуляции их экспрессии (включая регуляторные области генов нейропептидов) очень консервативны, то есть сходны по своим функциям и свойствам у весьма далеких друг от друга животных.
У всех изученных животных эти пептиды регулируют общественное и половое поведение, однако конкретные механизмы их действия могут сильно различаться у разных видов.
Например, у улиток гомолог вазопрессина и окситоцина (конопрессин) регулирует откладку яиц и эякуляцию.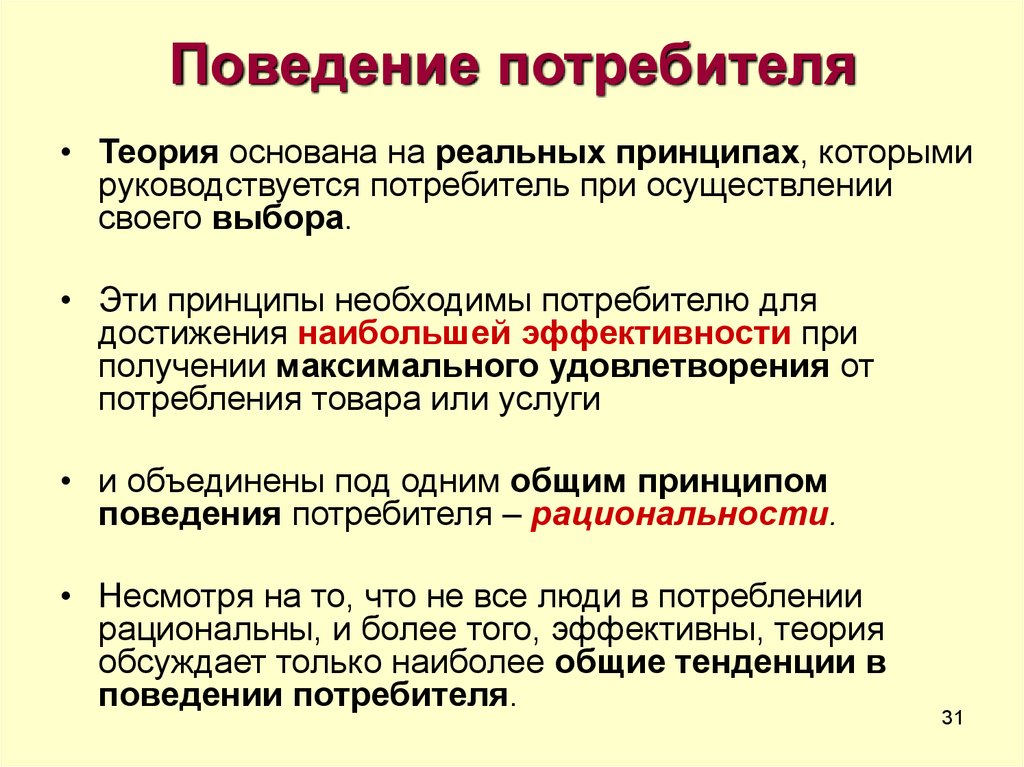 У позвоночных исходный ген удвоился, и пути двух получившихся нейропептидов разошлись: окситоцин влияет больше на самок, а вазопрессин — на самцов, хотя это и не строгое правило (см.: Самцы после спаривания становятся спокойнее и смелее, «Элементы», 16.10.2007). Окситоцин регулирует половое поведение самок, роды, лактацию, привязанность к детям и брачному партнеру. Вазопрессин влияет на эрекцию и эякуляцию у разных видов, включая крыс, людей и кроликов, а также на агрессию, территориальное поведение и отношения с женами.
У позвоночных исходный ген удвоился, и пути двух получившихся нейропептидов разошлись: окситоцин влияет больше на самок, а вазопрессин — на самцов, хотя это и не строгое правило (см.: Самцы после спаривания становятся спокойнее и смелее, «Элементы», 16.10.2007). Окситоцин регулирует половое поведение самок, роды, лактацию, привязанность к детям и брачному партнеру. Вазопрессин влияет на эрекцию и эякуляцию у разных видов, включая крыс, людей и кроликов, а также на агрессию, территориальное поведение и отношения с женами.
Если девственной крысе ввести в мозг окситоцин, она начинает заботиться о чужих крысятах, хотя в нормальном состоянии они ей глубоко безразличны. Напротив, если у крысы-матери подавить выработку окситоцина или блокировать окситоциновые рецепторы, она теряет интерес к своим детям.
Если у крыс окситоцин вызывает заботу о детях вообще, в том числе о чужих, то у овец и людей дело обстоит сложнее: тот же самый нейропептид обеспечивает избирательную привязанность матери к собственным детям.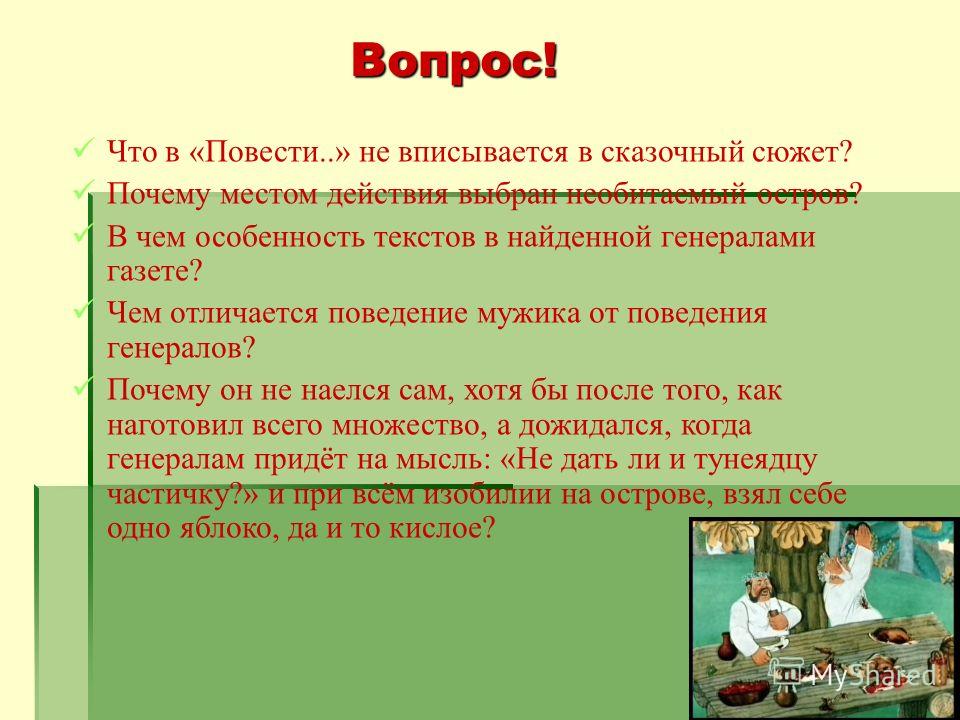 Например, у овец под влиянием окситоцина после родов происходят изменения в обонятельном отделе мозга (обонятельной луковице), благодаря которым овца запоминает индивидуальный запах своих ягнят, и только к ним у нее развивается привязанность.
Например, у овец под влиянием окситоцина после родов происходят изменения в обонятельном отделе мозга (обонятельной луковице), благодаря которым овца запоминает индивидуальный запах своих ягнят, и только к ним у нее развивается привязанность.
У прерийных полевок, для которых характерна строгая моногамия, самки на всю жизнь привязываются к своему избраннику под действием окситоцина. Скорее всего, в данном случае имевшаяся ранее окситоциновая система формирования привязанности к детям была «кооптирована» для формирования неразрывных брачных уз. У самцов того же вида супружеская верность регулируется вазопрессином, а также нейромедиатором дофамином (см.: Любовь и верность контролируются дофамином, «Элементы», 07.12.2005).
Формирование личных привязанностей (к детям или к мужу), по-видимому, является лишь одним из аспектов (проявлений, реализаций) более общей функции окситоцина — регуляции отношений с сородичами. Например, мыши с отключенным геном окситоцина перестают узнавать сородичей, с которыми ранее встречались. Память и все органы чувств у них при этом работают нормально.
Память и все органы чувств у них при этом работают нормально.
Одни и те же нейропептиды могут совершенно по-разному действовать даже на представителей близкородственных видов, если их социальное поведение сильно различается. Например, введение вазопрессина самцам прерийной полевки быстро превращает их в любящих мужей и заботливых отцов. Однако на самцов близкого вида, для которого не характерно образование прочных семейных пар, вазопрессин такого действия не оказывает. Введение вазотоцина (птичьего гомолога вазопрессина) самцам территориальных птиц делает их более агрессивными и заставляет больше петь, но если тот же нейропептид ввести самцам зебровой амадины, которые живут колониями и не охраняют своих участков, то ничего подобного не происходит. Очевидно, нейропептиды не создают тот или иной тип поведения из ничего, а только регулируют уже имеющиеся (генетически обусловленные) поведенческие стереотипы и предрасположенности.
Этого, однако, нельзя сказать про рецепторы окситоцина и вазопрессина, которые располагаются на мембранах нейронов некоторых отделов мозга. В упомянутой выше заметке «Любовь и верность контролируются дофамином» рассказывалось о том, что ученые пытались, воздействуя на дофаминовые рецепторы, научить самца немоногамной полевки быть верным мужем, и у них ничего не вышло (я тогда заметил по этому поводу, что «нейрохимия семейных отношений продолжает хранить свои тайны»). Спустя три года (то есть уже в нынешнем году) нейробиологи все-таки подобрали к этой тайне ключик, и закоренелых гуляк превратили наконец в верных мужей. Для этого, как выяснилось, достаточно повысить экспрессию вазопрессиновых рецепторов V1a в мозге. Таким образом, регулируя работу генов возопрессиновых рецепторов, можно создать новую манеру поведения, которая в норме не свойственна данному виду животных.
В упомянутой выше заметке «Любовь и верность контролируются дофамином» рассказывалось о том, что ученые пытались, воздействуя на дофаминовые рецепторы, научить самца немоногамной полевки быть верным мужем, и у них ничего не вышло (я тогда заметил по этому поводу, что «нейрохимия семейных отношений продолжает хранить свои тайны»). Спустя три года (то есть уже в нынешнем году) нейробиологи все-таки подобрали к этой тайне ключик, и закоренелых гуляк превратили наконец в верных мужей. Для этого, как выяснилось, достаточно повысить экспрессию вазопрессиновых рецепторов V1a в мозге. Таким образом, регулируя работу генов возопрессиновых рецепторов, можно создать новую манеру поведения, которая в норме не свойственна данному виду животных.
У полевок экспрессия вазопрессиновых рецепторов зависит от некодирующего участка ДНК — микросателлита, расположенного перед геном рецептора V1a. У моногамной полевки этот микросателлит длиннее, чем у немоногамного вида. Индивидуальная вариабельность по длине микросателлита коррелирует с индивидуальными различиями поведения (со степенью супружеской верности и заботы о потомстве).
У человека, конечно, исследовать всё это гораздо труднее — кто же позволит проводить с людьми генно-инженерные эксперименты. Однако многое можно понять и без грубого вмешательства в геном или мозг. Удивительные результаты дало сопоставление индивидуальной изменчивости людей по микросателлитам, расположенным недалеко от гена рецептора V1a, с психологическими и поведенческими различиями. Например, оказалось, что длина микросателлитов коррелирует со временем полового созревания, а также с чертами характера, связанными с общественной жизнью — в том числе с альтруизмом. Хотите стать добрее? Увеличьте в клетках мозга длину микросателлита RS3 возле гена вазопрессинового рецептора.
Этот микросателлит влияет и на семейную жизнь. Исследование, проведенное в 2006 году в Швеции, показало, что у мужчин, гомозиготных по одному из аллельных вариантов микросателлита (этот вариант называется RS3 334), возникновение романтических отношений вдвое реже приводит к браку, чем у всех прочих мужчин. Кроме того, у них вдвое больше шансов оказаться несчастными в семейной жизни. У женщин ничего подобного не обнаружено: женщины, гомозиготные по данному аллелю, счастливы в личной жизни не менее остальных. Однако те женщины, которым достался муж с «неправильным» вариантом микросателлита, обычно недовольны отношениями в семье.
Кроме того, у них вдвое больше шансов оказаться несчастными в семейной жизни. У женщин ничего подобного не обнаружено: женщины, гомозиготные по данному аллелю, счастливы в личной жизни не менее остальных. Однако те женщины, которым достался муж с «неправильным» вариантом микросателлита, обычно недовольны отношениями в семье.
У носителей аллеля RS3 334 обнаружено еще несколько характерных особенностей. Их доля повышена среди людей, страдающих аутизмом (основной симптом аутизма, как известно, это неспособность нормально общаться с другими людьми). Кроме того, оказалось, что при разглядывании чужих лиц (например, в тестах, где нужно по выражению лица определить настроение другого человека) у носителей аллеля RS3 334 сильнее возбуждается миндалина (amygdala) — отдел мозга, обрабатывающий социально-значимую информацию и связанный с такими чувствами, как страх и недоверчивость (см. ниже).
Подобные исследования начали проводить лишь недавно, поэтому многие результаты нуждаются в дополнительной проверке, однако общая картина начинает прорисовываться.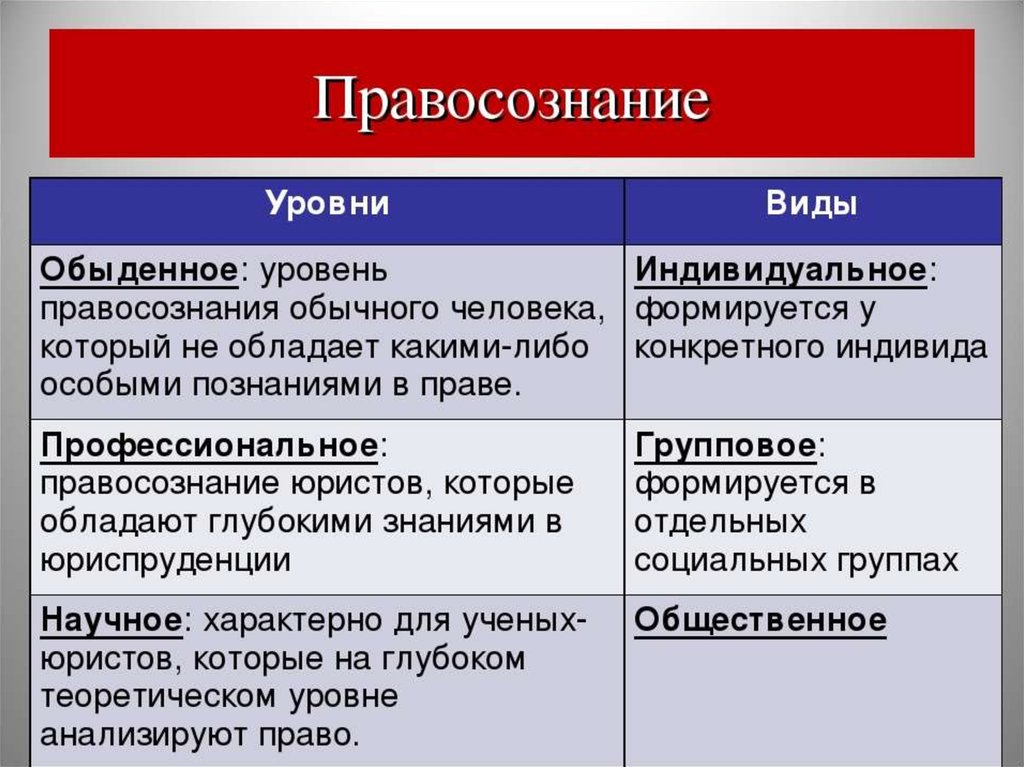 Похоже, что по характеру влияния окситоциновой и вазопрессиновой систем на отношения между особями люди не очень отличаются от полевок.
Похоже, что по характеру влияния окситоциновой и вазопрессиновой систем на отношения между особями люди не очень отличаются от полевок.
Вводить нейропептиды живым людям в мозг затруднительно, а внутривенное введение дает совсем другой эффект, потому что эти вещества не проходят через гематоэнцефалический барьер. Однако неожиданно оказалось, что можно вводить их перназально, то есть капать в нос, и эффект получается примерно таким же, как у крыс при введении прямо в мозг. Пока непонятно, почему так получается, и подобных исследований пока проведено совсем немного, но результаты, тем не менее, впечатляют.
Когда мужчинам капают в нос вазопрессин, лица других людей начинают им казаться менее дружелюбными. У женщин эффект обратный: чужие лица становятся приятнее, и у самих испытуемых мимика становится более дружелюбной (у мужчин — наоборот).
Опыты с перназальным введением окситоцина проводили пока только на мужчинах (с женщинами это делать опаснее, так как окситоцин сильно влияет на женскую репродуктивную функцию). Оказалось, что у мужчин от окситоцина улучшается способность понимать настроение других людей по выражению лица. Кроме того, мужчины начинают чаще смотреть собеседнику в глаза.
Оказалось, что у мужчин от окситоцина улучшается способность понимать настроение других людей по выражению лица. Кроме того, мужчины начинают чаще смотреть собеседнику в глаза.
В других экспериментах обнаружился еще один удивительный эффект перназального введения окситоцина — повышение доверчивости. Мужчины, которым ввели окситоцин, оказываются более щедрыми в «игре на доверие» (этот стандартный психологический тест описан в заметке Доверчивость и благодарность — наследственные признаки, «Элементы», 07.03.2008). Они дают больше денег своему партнеру по игре, если партнер — живой человек, однако щедрость не повышается от окситоцина, если партнером является компьютер.
Два независимых исследования показали, что введение окситоцина может приводить и к вредным для человека последствиям, потому что доверчивость может стать чрезмерной. Нормальный человек в «игре на доверие» становится менее щедрым (доверчивым) после того, как его доверие один раз было обмануто партнером. Но у мужчин, которым закапали в нос окситоцин, этого не происходит: они продолжают слепо доверять партнеру даже после того, как партнер их «предал».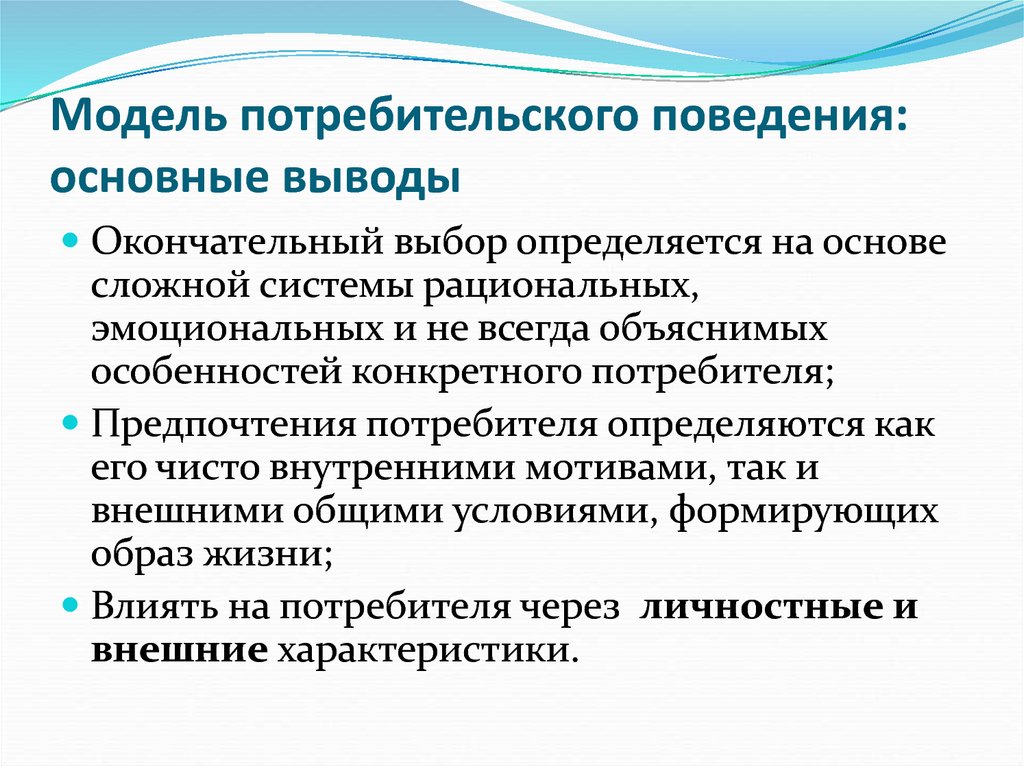
Если человеку сообщить неприятное известие, когда он смотрит на чье-то лицо, то это лицо впоследствии будет ему казаться менее привлекательным. Этого не происходит у мужчин, которым закапали в нос окситоцин.
Начинает проясняться и нейрологический механизм действия окситоцина: оказалось, что он подавляет активность миндалины. По-видимому, это и приводит к снижению недоверчивости (люди перестают бояться, что их обманут).
По мнению исследователей, перед обществом вскоре может встать целая серия новых «биоэтических» проблем. Следует ли разрешить торговцам распылять в воздухе вокруг своих товаров окситоцин? Можно ли прописывать окситоциновые капли разругавшимся супругам, которые хотят сохранить семью? Имеет ли право человек перед вступлением в брак выяснить аллельное состояние гена вазопрессинового рецептора у своего партнера?
Пока суд да дело, окситоцин продается в любой аптеке. Правда, только по рецепту врача. Его вводят роженицам внутривенно для усиления маточных сокращений.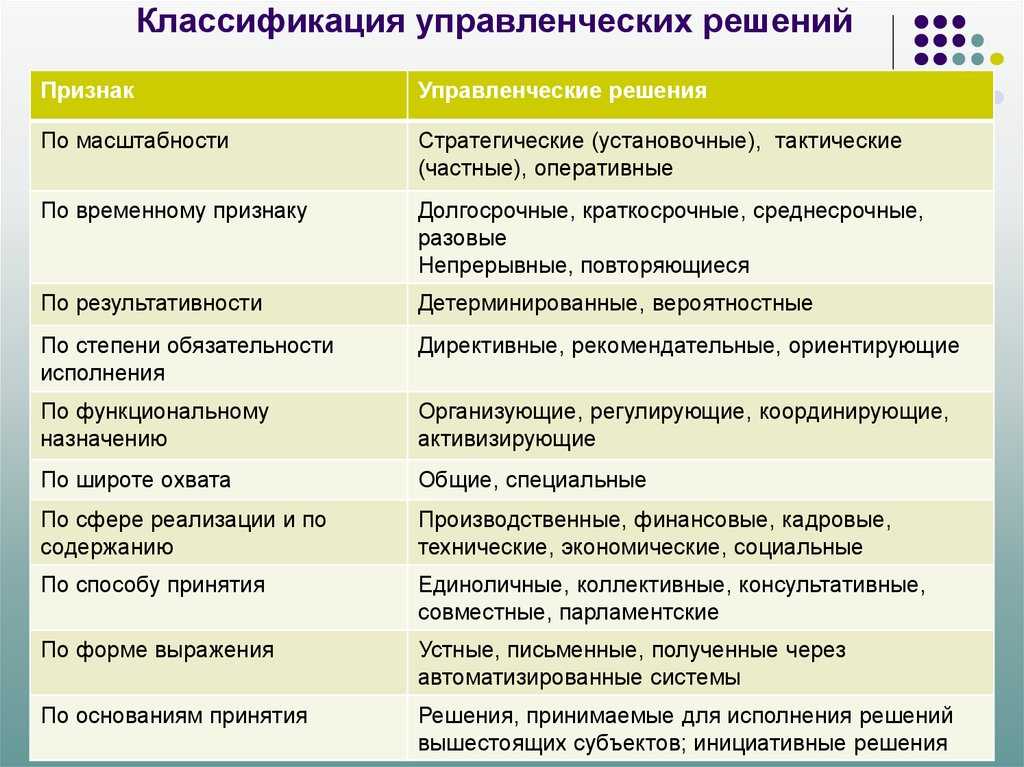 Как мы помним, он регулирует и роды, и откладку яиц у моллюсков, и многие другие аспекты репродуктивного поведения.
Как мы помним, он регулирует и роды, и откладку яиц у моллюсков, и многие другие аспекты репродуктивного поведения.
Политологам пора учить биологию
Аристотель, которого считают основоположником научной политологии, называл человека «политическим животным». Однако до самых недавних пор политологи не рассматривали всерьез возможность влияния биологических факторов (таких как генетическая вариабельность) на политические процессы. Политологи разрабатывали свои собственные модели, учитывающие десятки различных социологических показателей, но даже самые сложные из этих моделей могли объяснить не более трети наблюдаемой вариабельности поведения людей во время выборов. Чем объясняются остальные две трети? Похоже, ответ на этот вопрос могут дать генетики и нейробиологи.
Первые научные данные, указывающие на то, что политические взгляды отчасти зависят от генов, были получены в 1980-е годы, но поначалу эти результаты казались сомнительными. Убедительные доказательства наследуемости политических убеждений, а также других важных личностных характеристик, влияющих на политическое и экономическое поведение, удалось получить в последние 3–4 года в ходе изучения близнецов (об одном из таких исследований рассказано в заметке Доверчивость и благодарность — наследственные признаки, «Элементы», 07.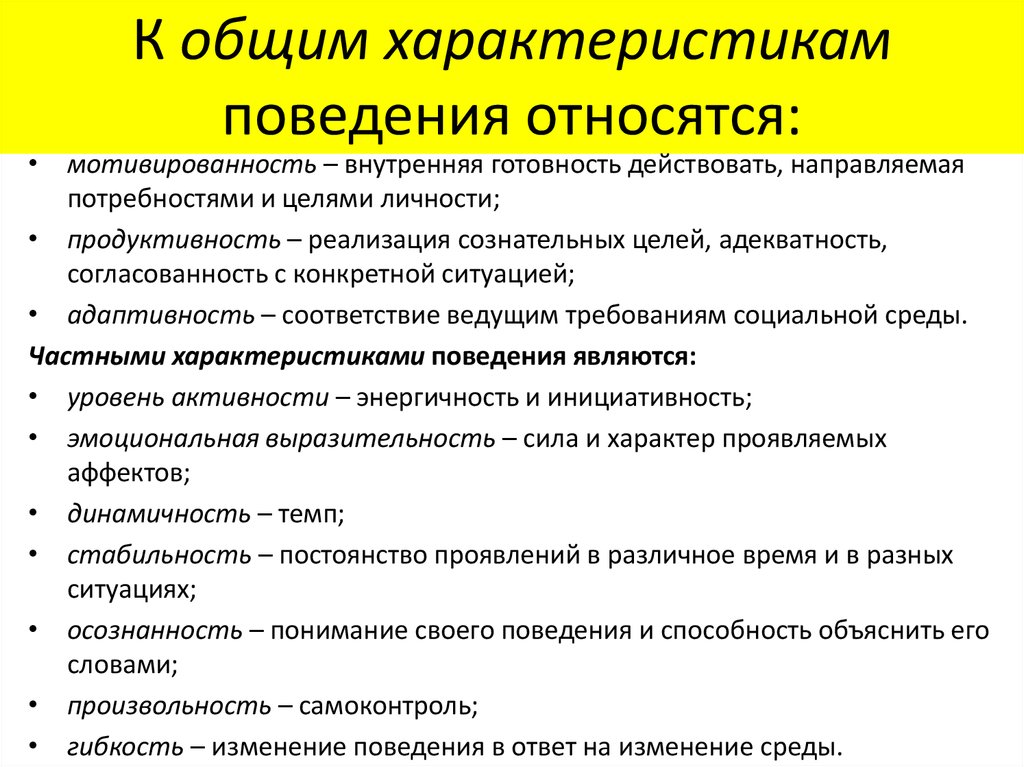 03.2008).
03.2008).
Эти исследования показали, что политические пристрастия в значительной мере являются наследственными, но они ничего не сказали о том, какие именно гены влияют на эти пристрастия. В этом направлении пока сделаны только самые первые шаги. Удалось найти ряд корреляций между политическими взглядами и аллельными вариантами генов. Например, вариабельность гена, кодирующего дофаминовый рецептор DRD2, коррелирует с приверженностью той или иной политической партии. Правда, эти результаты являются предварительными и нуждаются в проверке.
«Политическое мышление», по-видимому, является одним из важнейших аспектов социального интеллекта (см.: Найдено ключевое различие между человеческим и обезьяньим интеллектом, «Элементы», 13.09.2007). В повседневной жизни нам (как и другим приматам) постоянно приходится решать задачи «политического» характера: кому можно доверять, а кому нет; как вести себя с разными людьми в зависимости от их положения в общественной иерархии; как повысить свой собственный статус в этой иерархии; с кем заключить альянс и против кого.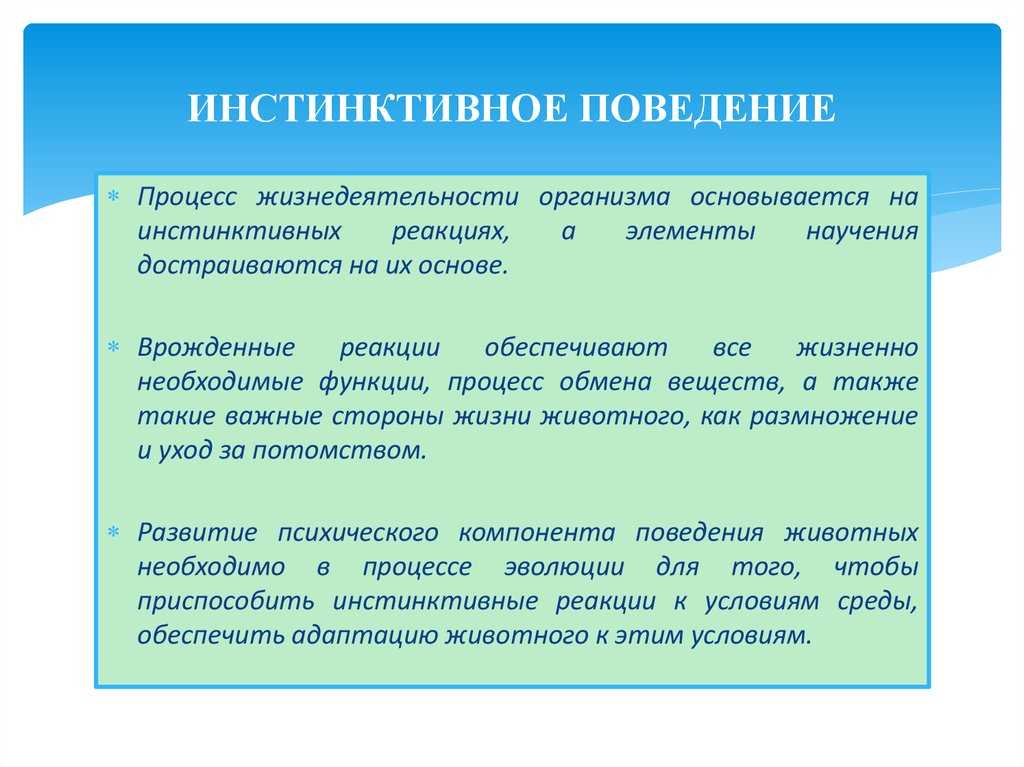 Нейробиологические исследования показали, что при решении подобных задач возбуждаются те же самые участки мозга, что и при обдумывании глобальных политических проблем, вынесении суждений о том или ином политическом деятеле, партии и т. п.
Нейробиологические исследования показали, что при решении подобных задач возбуждаются те же самые участки мозга, что и при обдумывании глобальных политических проблем, вынесении суждений о том или ином политическом деятеле, партии и т. п.
Однако это наблюдается только у людей, разбирающихся в политике, — например, у убежденных сторонников Демократической или Республиканской партии в США. Демократы и республиканцы используют для генерации политических суждений одни и те же «социально-ориентированные» участки мозга. Если же попросить высказаться о национальной политике людей, которые политикой не интересуются, то у них возбуждаются совсем другие участки мозга — те, которые отвечают за решение абстрактных задач, не связанных с человеческими взаимоотношениями (например, задач по математике). Это вовсе не значит, что у политически наивных людей плохо работает социальный интеллект. Это значит лишь, что они не разбираются в национальной политике, и потому соответствующие задачи в их сознании попадают в разряд «абстрактных», и социально-ориентированные контуры не задействуются.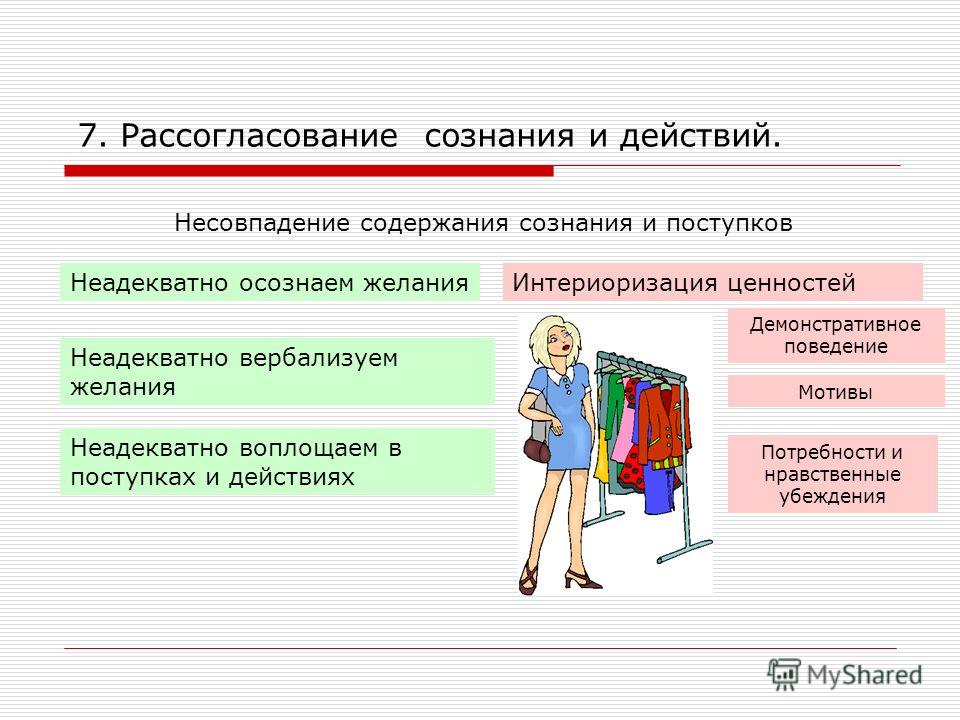 Нарушение работы этих контуров характерно для аутистов, которые могут очень хорошо справляться с абстрактными задачами, но не могут общаться с людьми.
Нарушение работы этих контуров характерно для аутистов, которые могут очень хорошо справляться с абстрактными задачами, но не могут общаться с людьми.
Крупномасштабные политические проблемы впервые встали перед людьми совсем недавно в эволюционном масштабе времени. Судя по всему, для решения мировых проблем мы используем старые, проверенные генетические и нейронные контуры, которые развились в ходе эволюции для регуляции наших взаимоотношений с соплеменниками в небольших коллективах. А если так, то для понимания политического поведения людей совершенно недостаточно учитывать только социологические данные. Политологам пора объединить свои усилия со специалистами по генетике поведения, нейробиологами и эволюционными психологами.
Источники:
1) Gene E. Robinson, Russell D. Fernald, David F. Clayton. Genes and Social Behavior // Science. 2008. V. 322. P. 896–900.
2) Zoe R. Donaldson, Larry J. Young. Oxytocin, Vasopressin, and the Neurogenetics of Sociality // Science. 2008. V. 322. P. 900–904.
2008. V. 322. P. 900–904.
3) James H. Fowler, Darren Schreiber. Biology, Politics, and the Emerging Science of Human Nature // Science. 2008. V. 322. P. 912–914.
См. также:
1) З. А. Зорина, И. И. Полетаева, Ж. И. Резникова. Основы этологии и генетики поведения.
2) Политические убеждения зависят от пугливости, «Элементы», 26.09.2008.
3) Биохимические основы любви закладываются в младенчестве, «Элементы», 02.12.2005.
Александр Марков
Разница между поведением и действием [обновлено в 2022 г.]
Последнее обновление: 20 сентября 2022 г. / Автор Piyush Yadav / Проверка фактов / 5 минут
Поведение , которое является существительным, а также действует как прилагательное, определяется как способ, которым человек функционирует и ведет себя по отношению к остальному миру.
Слова, имеющие сходное значение с поведением, включают поведение, осанку, этикет и т. д.
д.
С другой стороны, Действие — это также существительное, определяемое как метод или способ, которым мы действуем или реагируем на конкретную ситуацию, даже если она очень сложная.
Его еще называют актом воли. Действие также является междометием. Другие слова, которые означают действие, похожее на действие, включают движение, работу, жест, деятельность, задачу и т. д.
Поведение и действиедействие — это то, что выполняется для выполнения повестки дня, цели или задачи.
ПРИМЕР: –
- У нее очень плохое поведение по отношению к друзьям.
- Его действие меня полностью удивило.
- Его поведение очень грубое.
- Единственное лекарство от грусти действие .
Таблица сравнения поведения и действия (в табличной форме)
| Параметр сравнения | Поведение | Действие |
|---|---|---|
| Значение | Поведение означает общую обратную связь, ответ или жесты, совершаемые человеком при любых обстоятельствах. | Действие определяется как движение человека, жесты и функциональные возможности по отношению к произведению или другому человеку. |
| Класс грамматики | Поведение не входит в класс междометия. | Действие входит в класс междометий. |
| Описывает | Описывает заметную и видимую реакцию объекта. | Описывает способ передвижения и функционирование человека. |
| Похожие слова | Поведение, манера поведения, действия, поступки, подвиги и т. д. | Реакция, битва, действие, движение, жест и т. д. |
| Примеры | . 2. Убедитесь, что люди с отличным поведением будут награждены. | 1. Он не может выплатить кредит, и теперь ему грозит иск банка. 2. Ее мотивированное действие произвело большое впечатление на судей. |
Что такое поведение?
Поведение, которое является существительным и действует как прилагательное, определяется как наблюдаемая и видимая реакция существ в любой ситуации.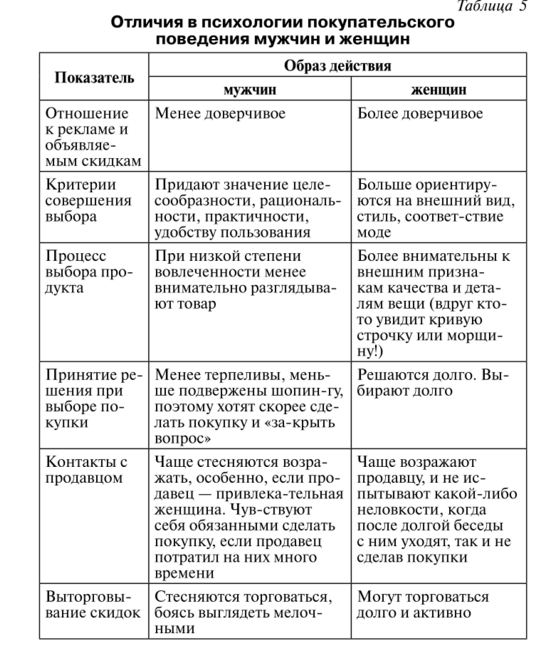 Поведение имеет более широкий смысл. Этот термин также включает ненаблюдаемые и незамеченные чувства, мышление и мысли.
Поведение имеет более широкий смысл. Этот термин также включает ненаблюдаемые и незамеченные чувства, мышление и мысли.
Слово «поведение» произошло от позднесреднеанглийского слова «поведение» (по форме поведения) и направлено устаревшим словом «поведение», которое в дальнейшем происходит от слова «иметь».
Это то, как человек действует или ведет себя по отношению к другим людям. К синонимам поведения относятся привычки, действия, поведение, эксплуатация и т. д. Я заметил резкое изменение в ее поведении.
- Такое поведение недопустимо в будущем.
- Ее поведение считается худшим во всем классе.
- Она простила незрелое поведение дочери .
- Она заметила изменение в своем поведении.

Что такое действие?
Действие, которое является существительным, а также действует как междометие, определяется как процедура выполнения чего-то, что описывает наше движение, работу, жесты по отношению к конкретному человеку или задаче.
Слово «действие» произошло в позднесреднеанглийский период через старофранцузский язык от латинского слова «actio» и слова «agere». Он описывает чей-то жест или движение. Синонимы действия включают представление, деятельность, задачу, движение и т. д.
Следующие примеры предложений помогут понять правильное употребление слова « ДЕЙСТВИЕ »: –
Как существительное: –- Ее плохой поступок был отвергнут общественностью.
- Она пообещала подать в суд.
- Полиция приняла меры против вора.
- Им, возможно, придется предпринять военные действия.

- Он пожаловался на это грубое действие.
- Как лучше поступить в этих сложных ситуациях?
Основные различия между поведением и действием
- Слово действие действует как существительное и как инъективное в предложениях, тогда как слово поведение может использоваться как существительное, но не может использоваться в предложениях как инъективное.
- Если принять во внимание произношение, то мы напрягаем второй слог, когда произносим слово «действие», тогда как ударение дается на третьем слоге, когда произносим слово «поведение».
- Поведение иногда может означать преодоление ограниченных границ, что вовсе не обязательно, и наше поведение не так уж сильно влияет, тогда как наши действия могут быть очень эффективными или превзойти ожидания.
- Действие, скорее всего, будет иметь более негативные последствия или неприятные ощущения, тогда как поведение не имеет такого значения по сравнению с действием.

- Слова, имеющие то же значение, что и действие, включают битву, реакцию, движение, жесты, представление, деятельность и т. д., тогда как слова, имеющие аналогичное значение поведению, включают привычки, обычаи, манеры, поступки, поведение и т. д.
Заключение
Поведение — это способ поведения или ответов отдельного лица или группы и т. д. Мы можем сказать, что наше поведение показывает, какая мы личность и каким этикетом мы руководствуемся. с.
Действие означает движения и функциональность тела для другого человека.
Действия состоят из жестов, голоса, отношения человека. Слово «поведение» можно рассматривать и как существительное, и как прилагательное, тогда как слово «действие» относится к категории существительного и инъективного.
Индивидуальное действие может оказать очень плохое влияние на других людей, в то время как поведение человека часто не имеет негативного влияния или неприятных ощущений.
Ссылки
- https://www.
 sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720604000163
sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720604000163 - https://psycnet.apa.org/journals/rev/94/1/3.html?uid=1987 -13123-001
Найдите в Google запрос «Спроси любую разницу». Оцените этот пост!
[Всего: 0]
Один запрос?
Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы он был вам полезен. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/семьей. SHARING IS ♥️
Содержание
сообщить об этом объявлении
Поведение и действие — в чем разница?
поведение | действие | В качестве существительных разница междуповедением и действием заключается в том, что поведение представляет собой (неисчислимое) человеческое поведение по отношению к социальным нормам, а действие — это нечто, совершаемое для достижения цели. Как междометиедействие — это, требующее или обозначающее начало чего-либо, обычно акта или сцены театрального представления. Как глаголдействие это(управление) действовать по запросу и т.д., чтобы претворить его в жизнь. Другие сравнения: в чем разница?Поведение против Actionampflash Поведение против действия Действие против изменения поведения Поведение против действия Поведение против действия
|
Теории действия и практики
Социология 319
Январь 15-17, 2003
Макс. Теория социального действия Вебера
Чтение для этого раздела: Макс Вебер, Экономика и общество , том 1, стр. 4-7
и стр. 22-31. На этих страницах Вебер
излагает и обсуждает свое определение социального действия и социального
отношение. Ссылки на Вебера
из этого раздела, а ссылки на Коэна взяты из второго издания
текст. Когда вы читаете это, помимо
понимание того, как Вебер определяет социальное действие и социальные отношения,
примечание:
Когда вы читаете это, помимо
понимание того, как Вебер определяет социальное действие и социальные отношения,
примечание:
Как Вебер ведет себя осторожно анализ. Каждая часть этого раздела попытка тщательно отсортировать и классифицировать многообразие человеческих действия и рассмотреть, что является социально значимым, а что нет.
Идеальные типы и средние. Вебер отмечает, как конкретные случаи действия (стр. 26) может включать различные способы ориентации и концептуально чистой форме некоторых социологически важных типов, хотя они могут быть только продемонстрировали свою полезность с точки зрения их результатов (стр. 26).
В этом разделе Вебер не
озабочены тем, что истинно или ложно, хорошо или плохо, действительно или недействительно,
кооперативные или конфликтные аспекты каждого из них могут быть вовлечены в социальную
действие. Скорее, он озабочен
их значение для актера и категоризация, которую он разрабатывает, состоит в том, чтобы определить
то, что он считает социологически значимым действием.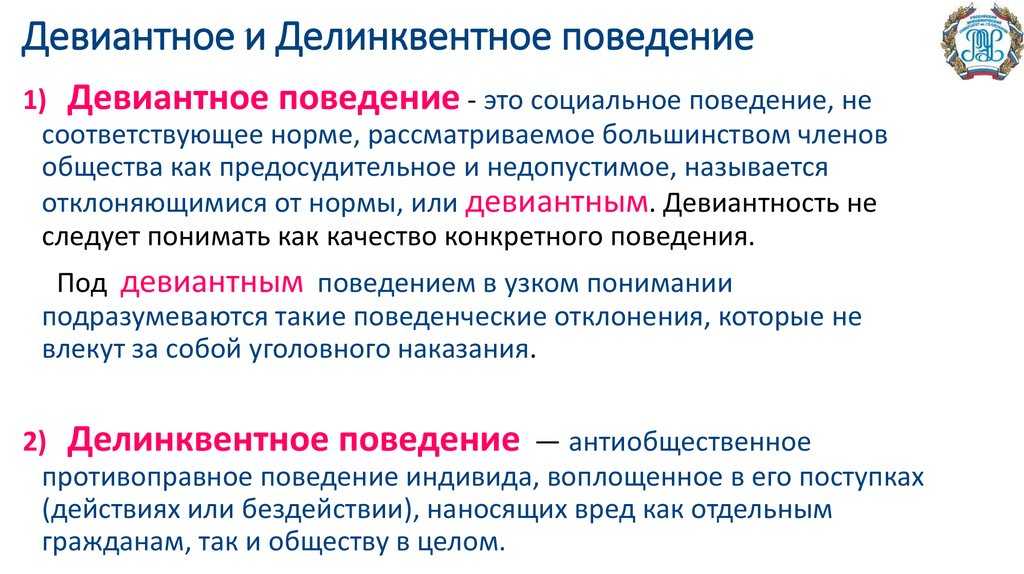
1. Социология
До определения социального действия Вебер утверждает, что социология — это наука, занимающаяся интерпретацией понимание социального действия и тем самым причинное объяснение его ход и последствия (Вебер, стр. 4). В других работах Вебер расширяет свое определение социологии и социальное, но стоит отметить, как это краткое определение резюмирует его подход к изучению общества. Ключевые аспекты это определение:
Научная систематика возможна изучать объективно.
Интерпретативное понимание как метод или подход к такому исследованию.
Социальное действие как предмет, где такое действие имеет курс и последствия.
Каузальное объяснение как метод и результат исследования.
Позже в этом наборе показаний Вебер также утверждает, что социологическое исследование связано с этими типичными способами действие (стр. 29). На этих страницах Вебер отличает социологию от:
История (стр.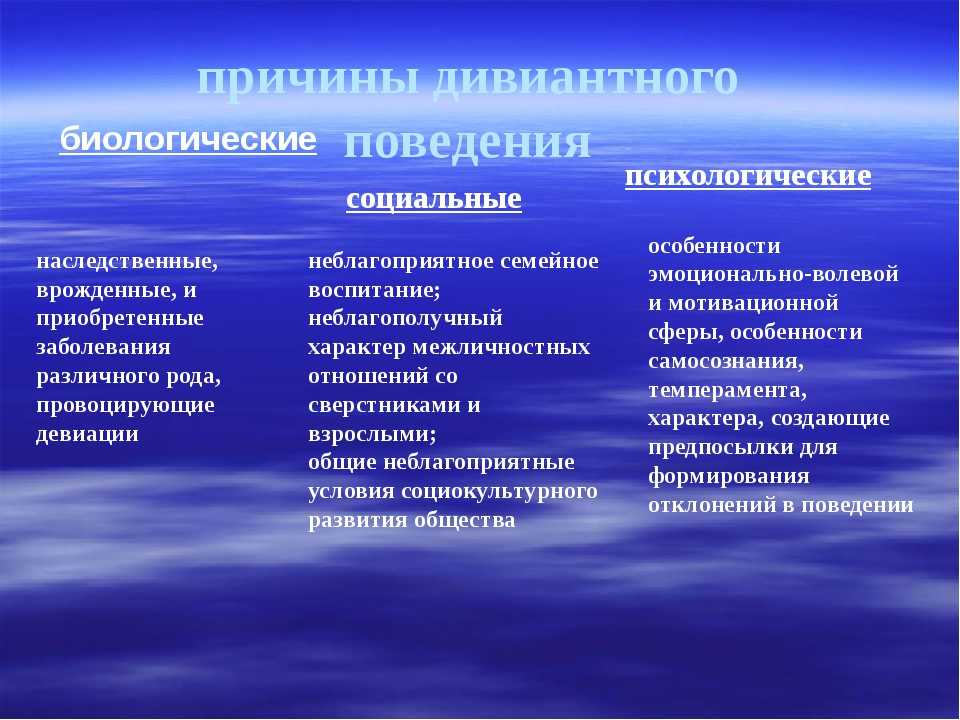 29), посвященная
важные отдельные события, а не типичные способы действия.
29), посвященная
важные отдельные события, а не типичные способы действия.
Догматические дисциплины, такие как юриспруденция, логика, этика, которые стремятся различить истинные или действительные значения (стр. 4).
Некоторые аспекты религии (стр. 22), т.е. не созерцание или одинокая молитва.
Экономика (стр. 26) т.е. пока признавая, что экономическое действие является рациональным действием, социальный анализ не дело не в цене, а в типе инструментально рационального принятие решения, результатом которого является определенная цена.
Вебер отмечает, что социология отнюдь не ограничивается изучением социального действия, но он утверждает, что социальное действие является центральный предмет для того типа социологии, который он описывает в этом раздел (стр. 24)
2. Социальное действие
Для Вебера значение является основой для определения
социальное действие. Коэн отмечает, как Вебер
всегда подчиняется действующему лицу и всегда озабочен тем, как действующее лицо определяет
их собственные действия, и как это определяется с точки зрения некоторого значения для
актер. Он определяет почти каждый аспект
природная среда и состояние человека от действующих лиц экзистенциальные
точки зрения (стр. 76), то есть с собственной, уникальной точки зрения актеров. Далее, в отличие от некоторых философских
точки зрения, которые размышляют о существенных аспектах человеческой природы, Вебер
утверждал, что социологи уважают неотъемлемое право социальных субъектов на
определить, что его или ее социальное действие означает для него самого (Коэн, с.
75).
Он определяет почти каждый аспект
природная среда и состояние человека от действующих лиц экзистенциальные
точки зрения (стр. 76), то есть с собственной, уникальной точки зрения актеров. Далее, в отличие от некоторых философских
точки зрения, которые размышляют о существенных аспектах человеческой природы, Вебер
утверждал, что социологи уважают неотъемлемое право социальных субъектов на
определить, что его или ее социальное действие означает для него самого (Коэн, с.
75).
В Эконом и Общество , Вебер определяет действие, которое является социальным, как действия
в той мере, в какой действующий индивид придает субъективное значение своему поведению, явному или скрытому, упущению или согласие. Действие социально поскольку его субъективное значение учитывает поведение других и тем самым ориентируется в своем направлении. (Вебер, п. 4).
Отсюда видно три ключа аспекты определения человеческого действия как социального:
Значимо для актера.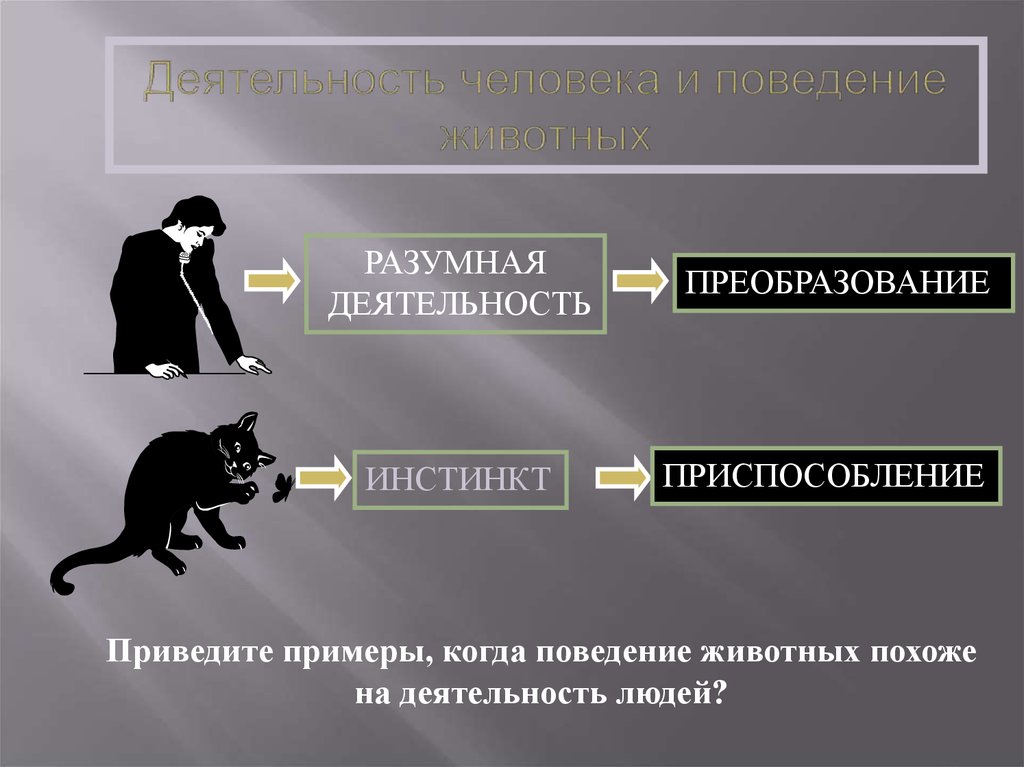 Предположительно вещи, которые понятны или
волнуют социального актора, возможно, в результате опыта, ценностей,
и интересы. Четырехкратный
классификация типов социального действия (Вебер, стр. 24-25) дает руководство к
виды смысла.
Предположительно вещи, которые понятны или
волнуют социального актора, возможно, в результате опыта, ценностей,
и интересы. Четырехкратный
классификация типов социального действия (Вебер, стр. 24-25) дает руководство к
виды смысла.
Рассмотрите других других социальных акторов обязательно участвуют для того, чтобы индивидуальное действие стало общественным действие, и они должны явно учитываться социальным актором (будь то положительно, отрицательно или нейтрально).
Ориентация на какое-то направление или цель в действии.
Хотя Вебер изначально не упоминает субъективного сознания, это понятие становится важным в его позднем рассмотрение того, какие формы действия социально значимы, а какие нет. Например, он отмечает, что это не всегда ясно, что бессознательно, и редко полностью осознает себя (стр. 24) и существуют различные степени самосознания (стр. 25). Коэн подчеркивает этот акцент на сознании в теориях действия, и Вебер использует это понятие, чтобы помочь в различении привычные, традиционные или подражательные формы поведения от тех, что
Некоторые другие аспекты подхода Вебера
также заслуживают внимания. Это как
следует.
Это как
следует.
а. Эмпирический . Метод Вебера эмпирический и социальный, не абстрактно и философски. Что То есть социологи и историки наблюдают за людьми как за акторами и исследуют их поведения и социальных действий они не просто теоретизируют об абстрактных или идеальных формы человеческого поведения. Это означает тщательное эмпирическое изучение социального мира, в котором живут и оперировать, то есть реально существующее значение в данном конкретном случае конкретного актора (Вебер, стр. 4).
В то же время Вебер разработал идеальный
виды субъективного смысла. Эти
могут быть ситуации с субъективным смыслом, приписываемые гипотетическому
актер или акторы в данном типе действия (Вебер, стр. 4). Коэн отмечает, что Вебер считал эти ясные
и недвусмысленно, хотя актеры часто лишь смутно понимают смысл
того, что они делают (Тернер, стр. 113). Но
идеальные типы возникают не только в результате теоретизирования, но и в результате тщательного абстрагирования после
точное определение и наблюдение за ситуациями, действиями и действующими лицами.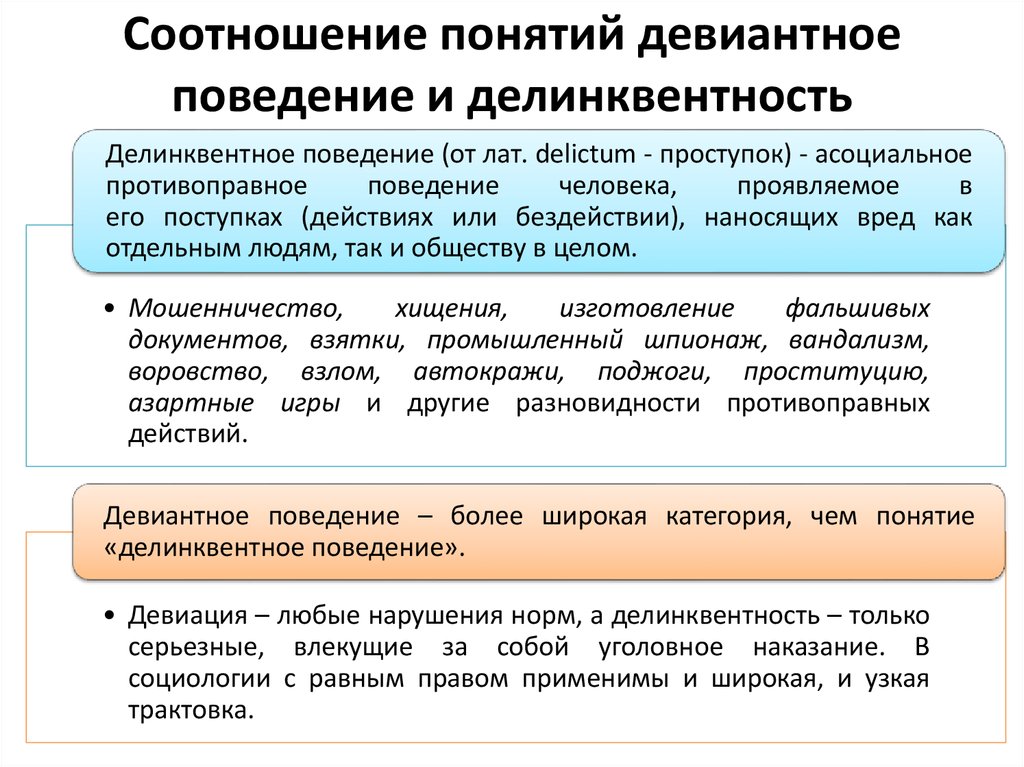 Например, когда Вебер обсуждает статус
честь, связанная с группой сверстников, это означает тщательное изучение способов,
в группе придают значение конкретным практикам или формам поведения. Хотя члены группы могут быть не в состоянии
определить их самих, эти
практики и формы поведения должны иметь смысл для членов группы, и
социологическое исследование должно уметь их описывать и понимать.
Например, когда Вебер обсуждает статус
честь, связанная с группой сверстников, это означает тщательное изучение способов,
в группе придают значение конкретным практикам или формам поведения. Хотя члены группы могут быть не в состоянии
определить их самих, эти
практики и формы поведения должны иметь смысл для членов группы, и
социологическое исследование должно уметь их описывать и понимать.
б.
Значение и ориентация . Вебер, по-видимому, не определяет значение, поэтому читатель должен
сделать вывод, что Вебер связывает с этим понятием. Одним из ориентиров является четырехкратная классификация
типы социального действия (стр. 24-25), хотя значение может быть шире, чем
это. Сюда входят действия, которые
связанные с целями, которые действующее лицо желает преследовать, действиями или целями, которые
ценность самих себя для актера (духовная, этическая, эмоциональная), чувство
состояния (Вебер, стр. 25), связанные с аффективной и эмоциональной деятельностью и
интересы, а также традиционные и привычные чувства, заботы и интересы, которые
может происходить из опыта и социализации. Некоторые виды деятельности, которые Вебер не считает социальными действиями, например
созерцание или духовная деятельность, также имеющая значение для человека
но они либо не привлекают других, либо не ориентированы.
Некоторые виды деятельности, которые Вебер не считает социальными действиями, например
созерцание или духовная деятельность, также имеющая значение для человека
но они либо не привлекают других, либо не ориентированы.
Первая ссылка Вебера на смысловые примечания
что это действительно существующее значение в данном конкретном случае
конкретного актера или, альтернативно, к среднему или приблизительному значению
приписывается данному множеству действующих лиц (Вебер, стр. 4). Коэн отмечает, что в случае с индивидуумом
как это означает поведение, которое актор субъективно ориентирует на поведение
другие. Сюда входит некоторое представление о
субъективное сознание, осведомленность о других, внимание к другим, наличие некоторых
понимание того, как одни действия реагируют на действия других или могут повлиять
другие. Он также ориентирован на свою
конечно, подразумевая, что у него есть какая-то цель, цель или конец, так что действующий
предположительно рассматривается, как он принимает во внимание других.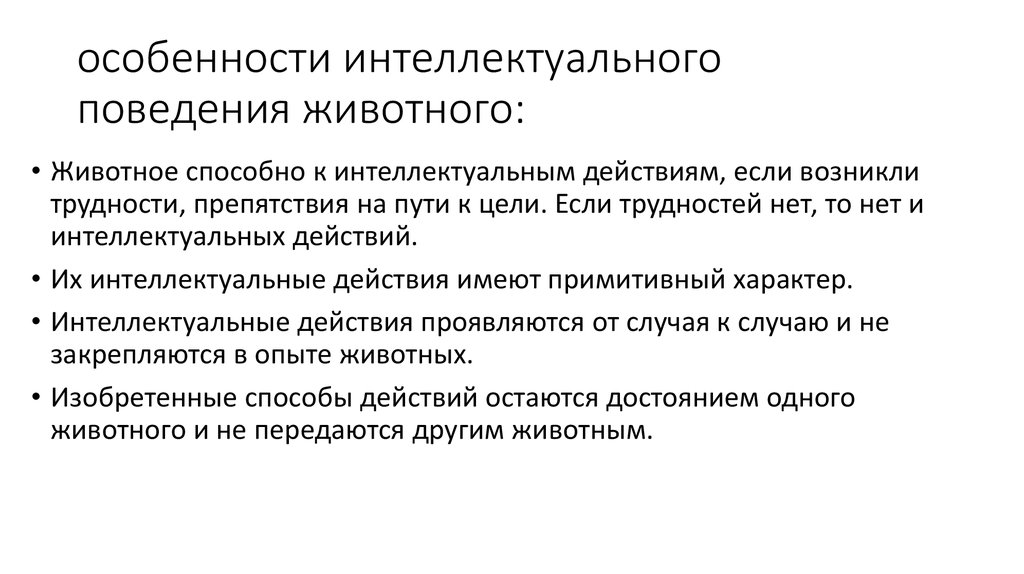
Вебер также обсуждает группу или множество, отмечая, что среднее или приблизительное значение связано с этим типом социальное действие. В случае такого действие, смысл действия для каждого действующего лица может несколько отличаться, но акторы, образующие множество, могут иметь сходные способы ориентации действие. Группа рабочих на рабочем месте, развивая понимание проблем на рабочем месте, может каждый отвечайте аналогичным образом. Это не автоматические рефлекторные действия рабочих, а продуманные способы, которые они реагируют на ситуацию. За Например, каждый секретарь мог бы придумать способы усилить контроль над своими рабочая ситуация.
в. Ассортимент социального действия . В большей части дискуссий Вебера на этих страницах он определяет и анализирует спектр социальных действий и классифицирует такие действия.
Один из способов осуществления социального действия
можно понять, рассматривая то, что не является социальным действием. К ним относятся такие действия, как
следующее:
К ним относятся такие действия, как
следующее:
Реактивное поведение там, где нет субъективный смысл (стр. 4) и вообще просто реактивное подражание не социально значимым.
Традиционное поведение, хотя это может пересечь грань между тем, что имеет смысл, а что нет (стр. 4-5) и почти автоматическая реакция на привычные раздражители (с. 25).
Психические процессы могут не значимым, по крайней мере, неразличимым для всех, кроме психолога (стр. 5).
Мистические переживания не обычно социальные, поскольку они полностью личные (стр. 5) и созерцание и уединенная молитва (стр. 22).
Психические или психофизические явления такие как усталость, привыкание, память, состояния эйфории и вариации в индивидуальное время реакции или точность (стр. 7).
Несоциальный, если открытое действие направлено к неодушевленным предметам (стр. 22). какая о действиях, направленных против нечеловеческих животных, например. гулять с собакой?
Естественные действия, такие как простое
столкновение двух велосипедистов (стр. 23), хотя последующие действия, такие как оскорбление,
драки или дружеская беседа обычно имеют общественное значение.
23), хотя последующие действия, такие как оскорбление,
драки или дружеская беседа обычно имеют общественное значение.
Общие действия в толпе, толпе психология, массовые действия (с. 23). Эти может быть социально значимым в некоторых обстоятельствах, но, как правило, более привычные, импульсивные (аплодисменты или освистывание на спортивном мероприятии или аплодисменты после музыкальное исполнение, напр. после каждого соло в джазе), автоматические или реактивные.
Подражание может быть осмысленным или нет, в зависимости от его формы и результатов (стр. 23-4). Вебер утверждает, что это трудно анализировать, подражание может быть просто реактивным, или это может быть процесс обучения, который имеет субъективное значение, связанное с с этим. Реактивное обучение речь детей такого рода, и трудно определить степень вовлечения субъективного смысла.
Чисто аффективное поведение (стр. 25)
также на границе аффективное действие является одной из форм социального действия, но если
деятельность является просто реактивной или привычной, она может быть не столь значимой в
каждое обстоятельство.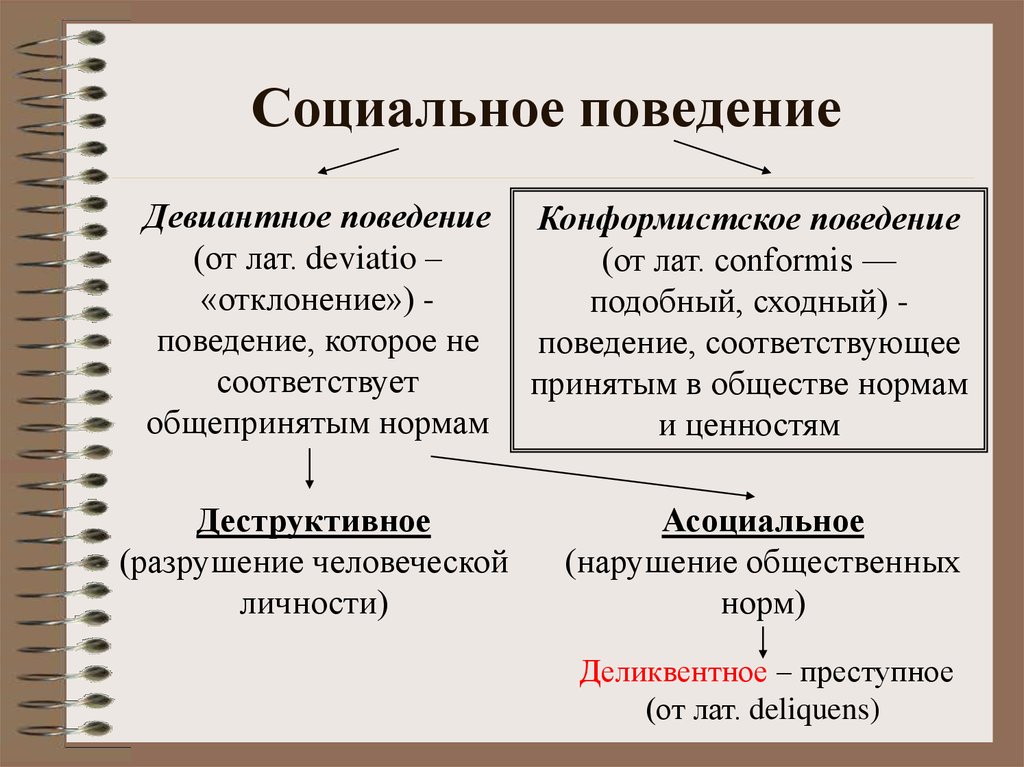
Все вышеперечисленное показывает сложность определяющее социальное действие, поскольку разделительная линия между тем, что имеет смысл, или считается разным в зависимости от человека и ситуации. Хотя Вебер достаточно четко различает социальное действия, а не в аналитических терминах, любое исследование социального действия требует тщательное эмпирическое исследование и сочувственное понимание со стороны социолога.
Среди видов действий, имеющих значение привязаны к ним и являются результатом сознательного рассмотрения, Вебер отмечает следующий.
Ориентация на конечные цели или ценности (п. 5), определение целей участников и [получение] достаточное знание всех обстоятельств (стр. 6) и различных способов какое человеческое действие было ориентировано на эти факты (стр. 7).
Ориентированы на прошлое, настоящее или ожидаемое будущее поведение других (стр. 22).
Может включать других, которые полностью
неизвестно (стр. 22)
22)
Использование денег и экономический обмен социально значимыми в том смысле, что они считаются, вовлекают других (в том числе будущее) и ориентированы на достижение какой-либо цели (с. 22).
д. Четыре вида социального действия . Вебер выделяет четыре основных типа социального действия. Это идеальные типы в том, что каждый аналитически отличается от другого, являются средними формами поведения, концептуально чисты (стр. 26) и социологически важны (стр. 26). Четыре формы (стр. 24-5):
Инструментально рациональное действие . Это социальные действия с рационально
преследуемые и рассчитанные цели (стр. 24) и где цель, средства и
вторичные результаты рационально учитываются и взвешиваются (с. 26). Это может включать расчет актеров
наилучшее средство для достижения данной цели (например, потребительская деятельность в экономической
сфера) или даже рассмотрение разных целей. Что касается последнего, Вебер отмечает, что полезность каждого из них может быть
считается, и может быть ранжирование
полезности, связанной с каждым концом, так что концы, имеющие большую полезность,
преследуются в первую очередь, и менее важные цели могут иметь меньшую срочность, связанную с
их.
Ценностно-рациональное действие . Это социальные действия, где конец или
ценность может преследоваться ради нее самой.
В таких действиях есть самосознательная формулировка предельного
ценности, управляющие действием, и последовательно спланированная направленность его
подробный курс (стр. 25). Примеры
эта форма социального действия включает религиозные или духовные действия, стремление
этические цели или преследование художественных или эстетических целей. Для этих действий часто бывает
что само действие может означать как преследование, так и достижение цели.
конец. Например, групповая молитва или
посещение поминальной службы может создать цель духовного мира для
индивидуальный; исполнять музыку для других или создавать произведения искусства,
выставление на всеобщее обозрение может быть средством, с помощью которого художник достигает эстетического
цели. Вебер упоминает такие действия, как
личная лояльность, долг, религиозный призыв, посредством чего человеческое действие мотивируется
выполнение таких безусловных требований (с. 25).
25).
Аффективное действие . Это аффективные или эмоциональные формы действие определяется специфическими аффектами и эмоциональными состояниями действующих лиц (с. 25). Социальные действия в семье члены, друзья и близкие партнеры являются примерами этого. Однако для Вебера важно отметить что они часто могут быть несколько бессознательными, например, неконтролируемыми реакция на какой-то исключительный раздражитель (с. 25). Хотя это может привести к более сознательному высвобождению эмоциональных напряжения (стр. 25), альтернативная точка зрения состоит в том, что оно может быть менее сознательным и более реактивный.
Традиционное действие . Это может быть самым трудным для отличать от сознательного действия в том действии, которое было изначально инструментальное, ценностно-рациональное или аффективное социальное действие может стать привычным, традиционными и сознательно не рассматривались в более позднее время.
Аффективные или эмоциональные и традиционные
действие может быть не таким центральным в веберовском анализе социального действия, поскольку они
может стать ценностным или инструментально-рациональным, а может стать бессознательным.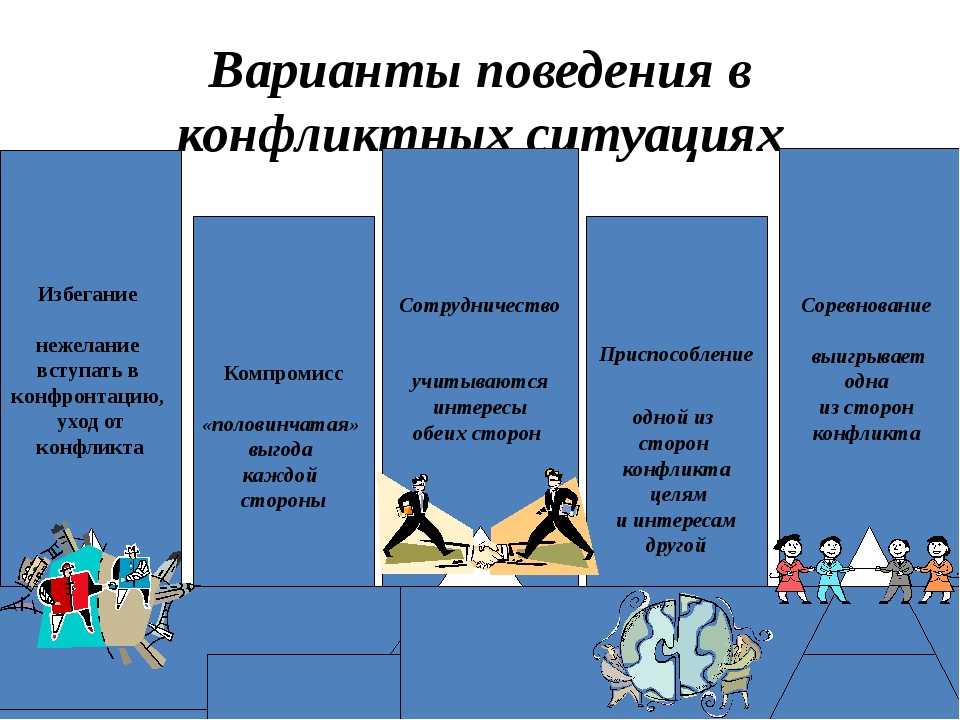 п. 25.
п. 25.
Но если сознательное высвобождение эмоционального напряжения рационализируется п. 2, с. 25.
Обратите внимание, что формы действия идеальны Тип режимов ориентирования последний абзац перед разделом 3, с. 26. Любое конкретное действие представляет собой смесь этих различные типы рациональных действий или могут также включать нерациональные или другие формы поведения, которые могут иметь мало смысла, связанного с ними.
Обратите внимание на сознание в этом разделе 2, стр. 24-26.
e. Понимание социального действия . На стр. 5-6 Вебер приводит некоторые методологические принципы того, как социологи могут понимать социальные действие. Среди факторов он называет являются:
Эмпатическая или благодарная точность
(стр. 5). это получение полностью
ясное интеллектуальное схватывание элементов действия путем схватывания эмоционального
контекст, в котором происходило действие (стр. 5). Обратите внимание, как это включает в себя особый способ мышления со стороны
социолога, но и тщательное эмпирическое исследование личности
ситуации, чтобы была ясность и поддающаяся проверке точность понимания и
понимание (стр.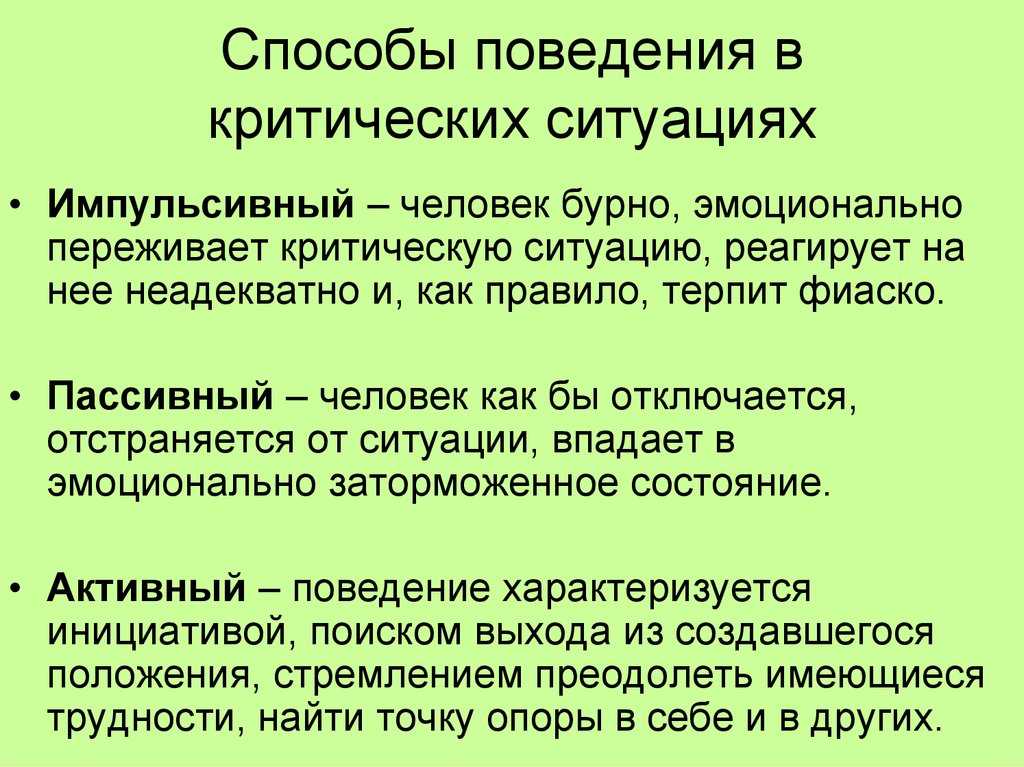 5). Для Вебера эти
являются научными наблюдениями.
5). Для Вебера эти
являются научными наблюдениями.
Социологических может быть меньше. определенность с точки зрения понимания источников ошибок и путаницы. Поскольку социолог мыслит рационально (согласно Веберу) это может быть несколько проще для социолог, чтобы понять рациональное, чем иррациональное действие. Для последнего может быть и больше трудно проверить обстоятельства и сделанные соображения.
Ценностно-рациональное действие может быть более трудно понять социологически, поскольку у социолога могут быть разные ценности и цели, чем другие социальные акторы. Религиозные или духовные соображения являются примером этого. Хотя я могу понять духовность аборигенов в интеллектуальном смысле, я не могу развить понимание всех аспектов смысла, которые коренные жители связывают с это.
Эмоциональные или аффективные формы действия
может быть более понятным, поскольку у большинства людей схожие эмоциональные
реакции, даже если они могут скрывать их или не выражать в поведении и
действие.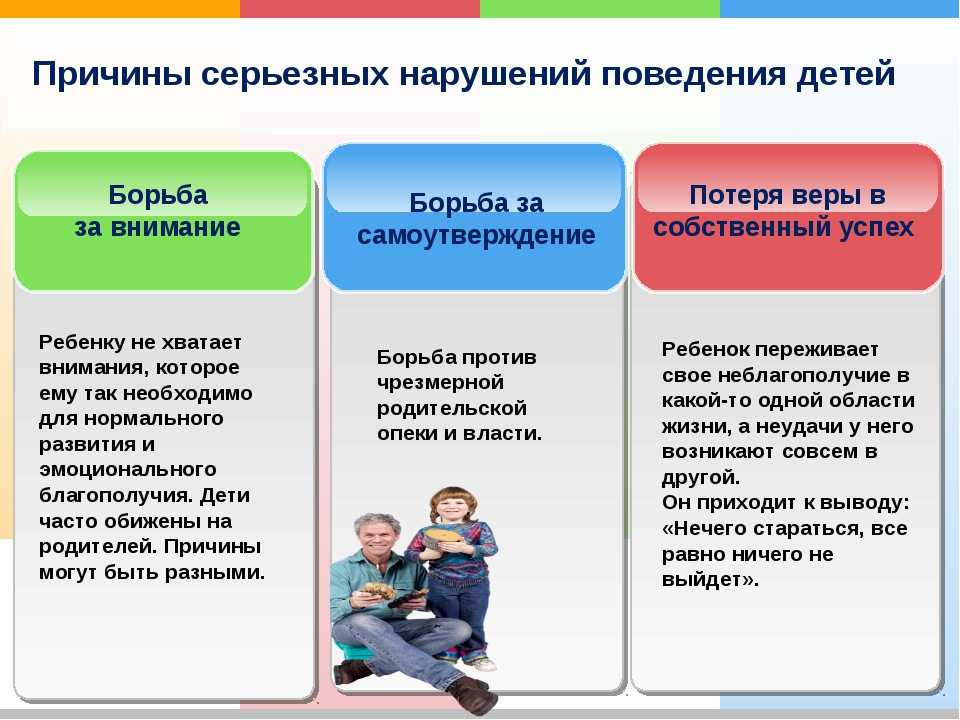
Методологически Вебер утверждает, что удобно рассматривать все иррациональные, аффективно детерминированные элементы поведение как факторы отклонения от идеального типа (с. 6). То есть получить представление о рациональный образ действий и, исходя из этого, можно определить ошибок, отклонений, двусмысленностей и неопределенностей, которые приводят к иррациональным действие.
3. Социальные отношения . Для Вебера индивидуальное социальное действие в социологически значимом поскольку оно ориентировано на других и включает в себя субъективное значение со стороны актера. Коэн утверждает, что в В разделе 3 «Концепция социальных отношений» Вебер расширяет значение социальное действие, связывая действия одного человека с действиями других результатом является переход от изучения индивидуального социального действия к определению и анализа социальных отношений. Вебер начинает этот раздел со слов:
Термин социальные отношения будет
использоваться для обозначения поведения множества акторов в той мере, в какой в его
смысловое содержание, действие каждого учитывает действия других и
ориентируется в этих терминах.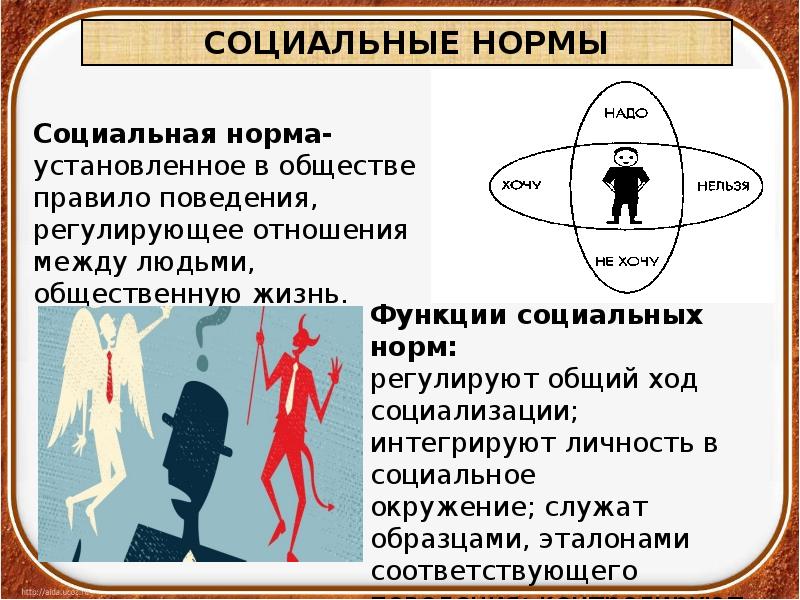 Социальный
отношения, таким образом, полностью и исключительно состоят в существовании
вероятность того, что будет иметь место осмысленный курс социального действия
независимо, на данный момент, от основания для этой вероятности. (Вебер, стр. 26-27).
Социальный
отношения, таким образом, полностью и исключительно состоят в существовании
вероятность того, что будет иметь место осмысленный курс социального действия
независимо, на данный момент, от основания для этой вероятности. (Вебер, стр. 26-27).
Коэн утверждает, что это помогает Веберу создать
социальная концепция индивидуального действия (стр. 77). Каждый аспект социального действия имеет значение для индивидуума или
по крайней мере, в этом есть смысл
содержание. Для социальных отношений
однако должна быть ориентация отдельных действий друг на друга. То есть для каждого индивида социальное действие
имеет смысл и ориентирован на других, и когда два или более действующих лица взаимно
ориентируют эти осмысленные социальные действия друг на друга, возникает социальная
отношение. Такой социальный
отношения сами по себе имеют значимое содержание для вовлеченных акторов. Наконец, Вебера не интересует
содержание такого действия, а скорее он занимается определением сущности
социальные отношения и аспекты формы или структуры, которые делают их социальными. Таких отношений может быть много
эмоциональные и аффективные отношения в семье, дружбе или формальном
отношения на рабочем месте, взаимодействие в малых группах или политические
взаимодействие. Актеры, участвующие в
такие отношения не обязательно должны быть групповыми в смысле статуса или этнического происхождения.
группа, со статусом честь. Скорее,
множественность — это набор социальных акторов, каждый из которых совершает значимое действие
ориентированы на других. Результат
осмысленный курс социального действия (стр. 27).
Таких отношений может быть много
эмоциональные и аффективные отношения в семье, дружбе или формальном
отношения на рабочем месте, взаимодействие в малых группах или политические
взаимодействие. Актеры, участвующие в
такие отношения не обязательно должны быть групповыми в смысле статуса или этнического происхождения.
группа, со статусом честь. Скорее,
множественность — это набор социальных акторов, каждый из которых совершает значимое действие
ориентированы на других. Результат
осмысленный курс социального действия (стр. 27).
Возможно, стоит рассмотреть действия
множества акторов, которые могут не быть социальными отношениями в веберианском
смысл. Примеры могут включать
движение пешеходов или транспортных средств или общие реакции в религиозном
служба или толпа. Пока чисто
экономическая деятельность или бюрократические отношения могут иметь значение для одного
отдельных, казалось бы, что они не ведут к социальным отношениям, или
по крайней мере не постоянная есть взаимная ориентация но во многих случаях
смысл кажется односторонним, и, конечно же, нет никакого продолжения осмысленного
курс социального действия.
В последующих абзацах на стр. 27-28, Вебер расширяет значение социальных отношений, приводя примеры и показывая диапазон социальных отношений, которые могут возникнуть.
В пункте 1 Вебер отмечает множество возможных формы содержания дружбы, обмена, конкуренции, конфликта, экономической обмен.
Значение не является истинным или правильным в любом абсолютном или теоретическом смысле. То есть, каждое социальное отношение связано с некоторым значимым действием, которое соответствующий отношениям. Опять таки, Вебера больше интересует то, что определяет социальный аспект общества. отношений, а не утверждать, что они вытекают из какого-то формального аспекта, такого как как церковь или брак. В каждом случае, социальные отношения — это не институт, а осмысленное поведение людей, вовлеченных в учреждение. Конечно, учреждение такие как брак, вполне вероятно, будут связаны со значимым социальным отношение.
Вебер не хочет овеществлять
понятие социальных отношений, т.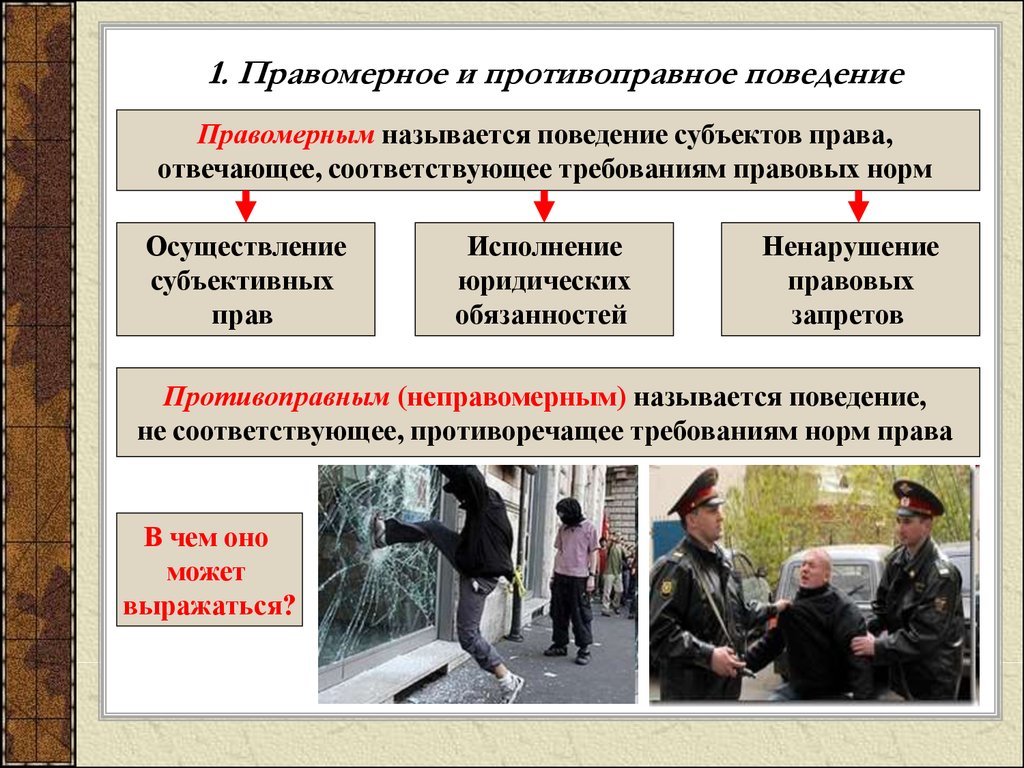 е. сделать их более фиксированными и имеющими
самостоятельный особый статус. Пока
Марксисты не рассматривают материализацию экономических концепций как эксплуататорские.
отношения скрыты, Вебер делает то же самое в отношении социальных институтов.
и структуры. Здесь он утверждает, что это
имеет смысл обсуждать такие понятия, как государство, но лишь до тех пор, пока
являются реальными социальными отношениями, связанными с этим, это эти
отношения, которые составляют институт и делают его значимым. Если такие отношения исчезнут, то
дольше существует социологически.
е. сделать их более фиксированными и имеющими
самостоятельный особый статус. Пока
Марксисты не рассматривают материализацию экономических концепций как эксплуататорские.
отношения скрыты, Вебер делает то же самое в отношении социальных институтов.
и структуры. Здесь он утверждает, что это
имеет смысл обсуждать такие понятия, как государство, но лишь до тех пор, пока
являются реальными социальными отношениями, связанными с этим, это эти
отношения, которые составляют институт и делают его значимым. Если такие отношения исчезнут, то
дольше существует социологически.
Отношения могут быть асимметричными.
это, по-видимому, имеет место во многих отношениях потребителей и
продавцы. Пункт 3 расширяет это
асимметрия, отметив, что понимание может быть неодинаковым для разных
лица в отношениях. Такой
асимметричные отношения могут быть более склонны к распаду или непониманию
чем симметричные, хотя и не обязательно в случае долга или
верность. Обратите внимание на эту возможность в пункте
5, с. 28, где меняется политическое отношение.
28, где меняется политическое отношение.
Различная степень постоянства отношения существуют (п. 4, с. 28). Хотя Вебер утверждает, что мимолетные отношения могут быть социальным отношения, повторное появление или постоянные и регулярные социальные отношения кажутся более социально значимыми для социальных моделей, максим, обычаев, или на заказ разработать. В пункте 6 Вебер отмечает, что относительно постоянные социальные отношения связаны с максимы или обычно ожидаемые и понятные формы действий партнеров для отношение. Это особенно случай рациональных отношений, в то время как объем и типы более эмоциональные отношения могут варьироваться в более широких пределах (рассмотрите паттерн переменных Парсонс). Например, супружеская отношения могут варьироваться от любви и привязанности до насилия и недоверия, и назад снова. Рациональные отношения в бизнес или бюрократия обычно не могут выдержать таких резких колебаний.
В пункте 7 Вебер комментирует согласие,
верность и долг.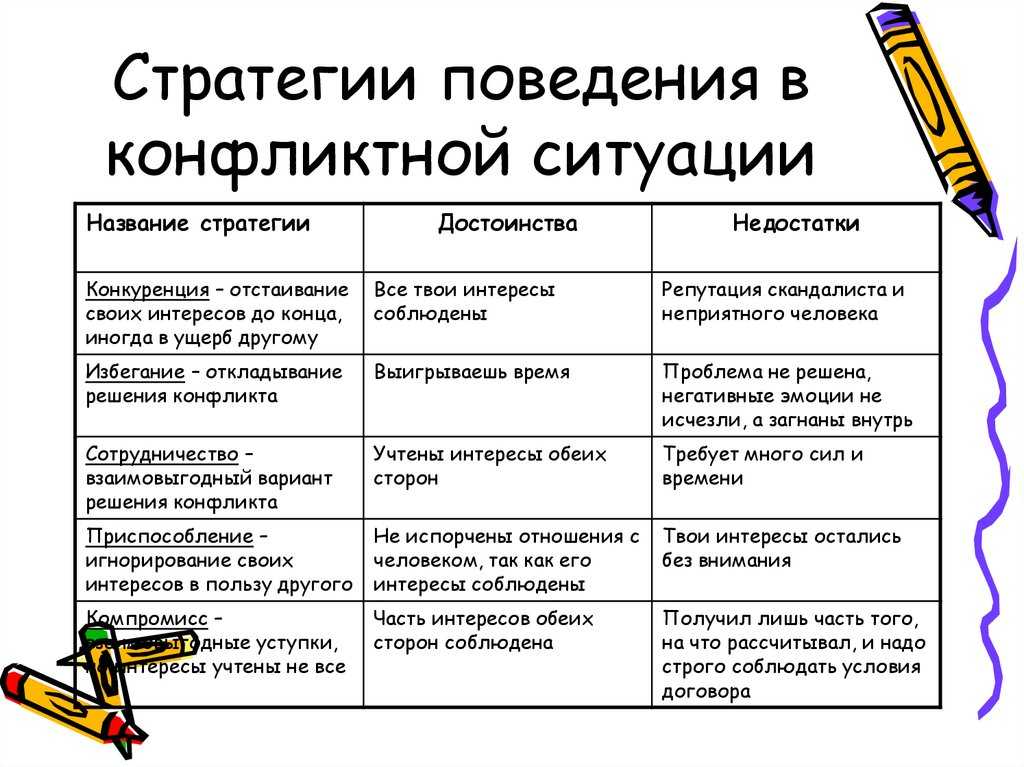 Для понимания
легитимность и авторитет — вот что важно для Вебера.
Для понимания
легитимность и авторитет — вот что важно для Вебера.
Некоторые из этих примеров показывают разнообразие способов возникновения и продолжения социальных отношений. Отказываясь овеществлять отношения, Вебер также указывает на гибкий характер всех социальных отношений. То есть, хотя мы можем обозначать ситуации как такие институты, как рабочее место или семья, Вебер утверждает, что они не установлены, предопределенной форме, а социальные отношения определяются тем, как люди в этих отношениях развивают и используют в своих действиях смысл, который поддерживать социальные отношения.
Обратите внимание, что Вебер не считает это
взаимодействие так же, как теоретики символического интеракционизма, хотя
он приближается к этому. Он признает
что существует взаимная ориентация акторов друг на друга, но не возникает
возможность того, как другие видят вас, повлияет на это действие, или как
потенциальная реакция других является частью того, что определяет социальное действие, или как
взаимодействие включает в себя процессы интерпретации и аккомодации. Скорее, Вебер фокусируется на каждом действующем
осуществляет действие для себя и ориентирует это действие на
другие.
Скорее, Вебер фокусируется на каждом действующем
осуществляет действие для себя и ориентирует это действие на
другие.
4. Стабильные модели и максимы . Коэн отмечает, как Вебер развивает понятие постоянство социальных отношений, отмечая, что существует повторяющееся повторение социальных отношений, поэтому модели и закономерности социального действия развивать. Это обеспечивает возможность подключения индивидуальные социальные действия с институтами и структурами паттерны и повторяющиеся отношения, формирующие институты и структуры общества. Коэн утверждает, что это позволяет для идеальных типов крупномасштабных институциональных порядков (с. 77). Вебер отмечает:
4. Социальные отношения могут иметь очень мимолетный характер или различной степени постоянства. В последнем случае существует вероятность повторное повторение поведения, которое соответствует его субъективному значение и, следовательно, ожидается.
6. Осмысленное содержание, которое
остается относительно постоянным в социальных отношениях, способен формулировать
с точки зрения принципов, соблюдения которых заинтересованные стороны ожидают от своих
партнеров в среднем и приблизительно. Чем рациональнее по отношению к ценностям или к заданным целям действие,
тем более вероятно, что это так.
(Вебер, стр. 28).
Чем рациональнее по отношению к ценностям или к заданным целям действие,
тем более вероятно, что это так.
(Вебер, стр. 28).
В пункте 4 Вебер отмечает, что отношения могут регулярно повторяться, чтобы действия, имеющие смысл, связанный с их ожидаемо. Это это регулярное повторение, создающее шаблоны, которые мы можем назвать учреждения. Хотя они могут быть формальными институтов, таких как рабочее место или школа, многие из них формируются на более институты на добровольной основе, такие как семья, группы сверстников или дружба. Но обратите внимание, что хотя эти регулярные шаблоны ожидаются, Вебер утверждает, что это все еще социальные действия, основанные на значение для актеров.
В пункте 6 Вебер отмечает, что содержание
эти упорядоченные социальные отношения могут стать максимными формами действия, которые
соблюдаются и ожидается, что они будут соблюдаться, по крайней мере, в среднем и
примерно. В следующем разделе «Экономика и общество » Вебер отмечает, как
они могут стать еще более регулярными и единообразными по мере того, как они превращаются в использование,
обычай, соглашение или даже законы.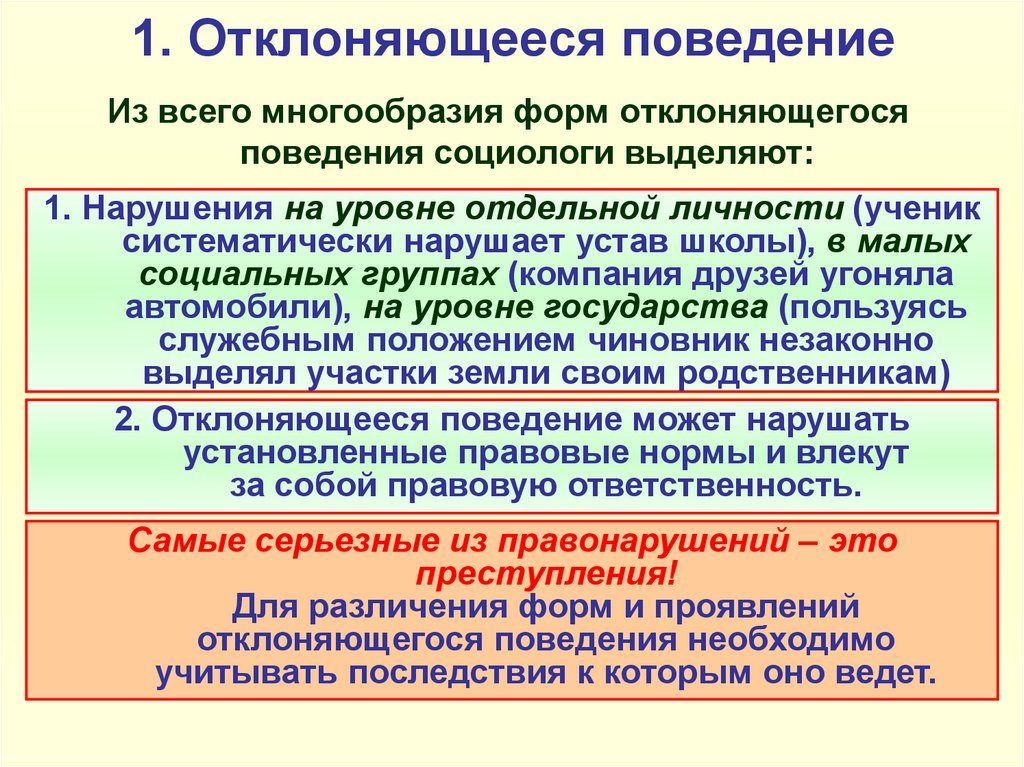
Вебер также отмечает, что регуляризация более вероятно, когда есть рациональные действия. Если действие носит аффективный характер или связано с личным связи, то меньше вероятность того, что она станет однородной.
Вебер, похоже, не уделяет особого внимания тому, что происходит в случае неожиданных форм действия, или что происходит, когда люди не придерживайтесь максим и ожиданий. Именно эти ситуации Дюркгейм и Парсонс сосредоточили в своих исследованиях. деталь. Парсонс, в частности, отметил такие факторы, как социальное одобрение и неодобрение.
На с. 78, Коэн связывает эти
надындивидуальные нормы, которые развиваются из устойчивых паттернов социального действия
и социальных отношений к вопросу о порядке, который, как он отмечает, является поведением
ориентируется на максиму, норму или правило.
Различные формы власти, способы создания легитимности
обсуждаемый Вебером в этом контексте (традиционный, харизматический,
рационально-правовой).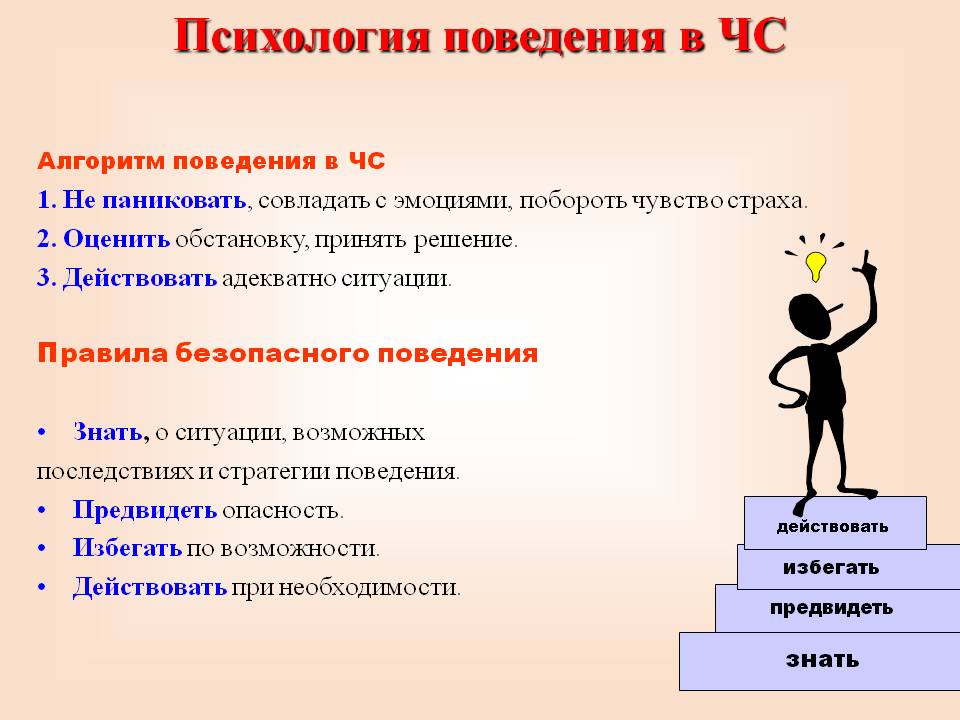 Как отмечает Коэн,
законность не может быть принята, но должна быть продемонстрирована в каждом случае. Но если это можно продемонстрировать, это обеспечивает
объяснение структурных порядков, основанное на значении и индивидуальном
социальное действие, тем самым обеспечивая решение проблемы структуры действия.
Как отмечает Коэн,
законность не может быть принята, но должна быть продемонстрирована в каждом случае. Но если это можно продемонстрировать, это обеспечивает
объяснение структурных порядков, основанное на значении и индивидуальном
социальное действие, тем самым обеспечивая решение проблемы структуры действия.
В последнем разделе чтения Вебер связывает такие повторяющиеся паттерны с регулярным использованием реальных обычаи, включая моду, и обычаи, более долговечные или более постоянные практики. Опять же, это могут быть считается основой для развития социальных институтов.
5. Проблемы подхода Вебера
а.
Сосредоточьтесь на сознательном во время его обсуждения
социальное действие, Вебер подчеркивает сознательный аспект и пытается устранить
из обсуждения тех аспектов, которые не так сознательны. Будучи систематическим, тщательным и полезным, его
подход может быть слишком узким взглядом на то, что представляет собой социальные действия человека. и что является социально значимым с точки зрения социального поведения и социальной
учреждения.
и что является социально значимым с точки зрения социального поведения и социальной
учреждения.
б. Причины . Вебер дает мало анализа того, почему люди придерживаются максим и правил. соглашения. Вебер предлагает разумное объяснение того, как люди интерпретируют их и как они социальны в что люди придают им значение. Но есть мало объяснений того, почему они повторяются, кроме того, что они делать, потому что люди ожидают от них.
в.
Мощность .
Коэн отмечает (стр. 78) ad hoc характер власти для Вебера. В то время как определение власти Вебером было
широко используется в состоянии выполнять волю даже вопреки противодействию со стороны других
не кажется хорошо обоснованным в теории действия Вебера. Коэн отмечает, как это смешивает волю или
решимость со значимым намерением, но откуда взяться воле и решимости
из? Вебер очень аккуратно работает
со смыслом, а Вебер вводит волю без объяснения. Кажется, это проблема для взаимодействия
теоретики тоже.
д. Неравенство . Коэн также считает, что у Вебера нет теория неравенства в рамках концепции осмысленного действия (с. 78). На самом деле, некоторая степень равенства может быть подразумевается в определении социальных отношений, хотя ни Вебер, ни Коэн отмечает это. Коэн отмечает, что Вебер использует специальное объяснение неравенства, говоря, что оно возникает в результате конфликта или отбор. Напомним, что определение социальных отношений не учитывало характер отношения, т. е. в социальных отношениях допускались как сотрудничество, так и конфликты. отношения. Проблема в том, что Вебер не продолжает обсуждение этих различных форм социальные отношения.
6. Заключение
Веберы сосредотачиваются на сознании и значении
предоставили очень полезный способ рассмотреть, как социальное действие может быть
считается. Это всегда заставляет
социолог, чтобы понять актера, рассмотреть позицию актера и
изучить, как смысл существует в любом социальном действии.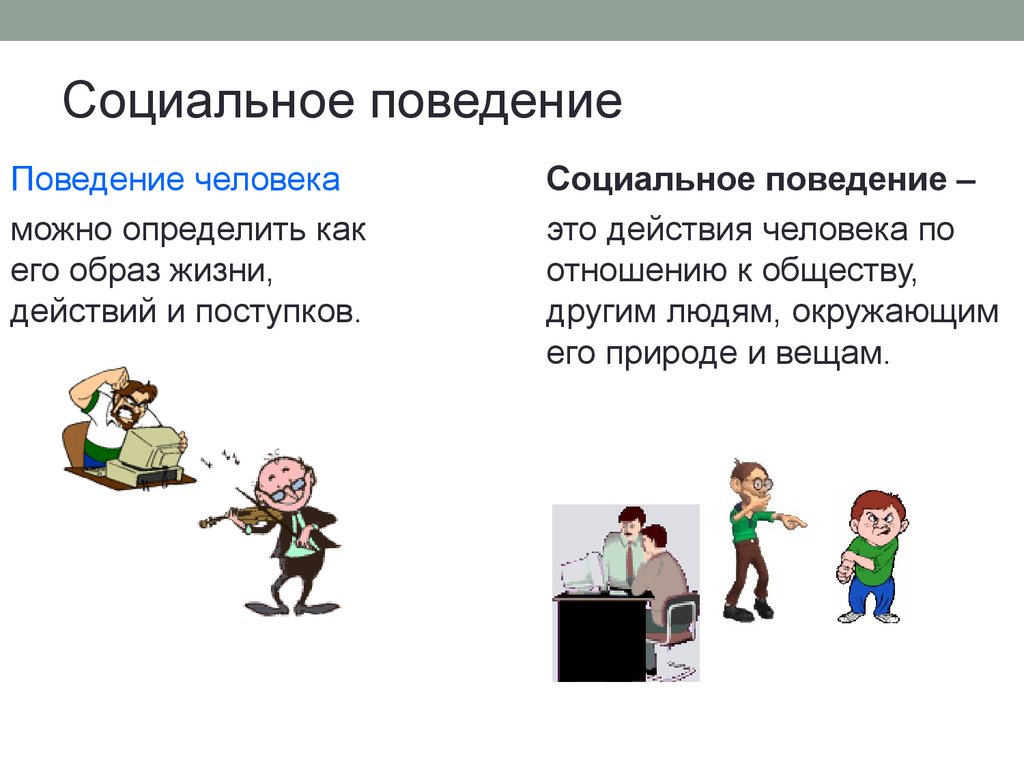 Связывая социальное действие с социальными отношениями и утверждая, что
они развивают шаблоны, которые становятся регулярными, Вебер может интегрировать
действия и структуры, а также объяснить социальные структуры
в конечном счете коренится в индивидуальном социальном действии.
В то же время Вебер, возможно, слишком узко определял социальное.
не уделялось должного внимания ряду аспектов, таких как проживание,
Взаимодействие, власть и неравенство. Но
в конце концов, Вебер приходит к выводу, что акторы определяют свое собственное поведение (Коэн, с.
78) представляется достойным рекомендации для социологических исследований. Слишком часто суждения о действиях
социальные акторы создаются другими без хорошего понимания позиции,
определение и положение действующего лица.
Связывая социальное действие с социальными отношениями и утверждая, что
они развивают шаблоны, которые становятся регулярными, Вебер может интегрировать
действия и структуры, а также объяснить социальные структуры
в конечном счете коренится в индивидуальном социальном действии.
В то же время Вебер, возможно, слишком узко определял социальное.
не уделялось должного внимания ряду аспектов, таких как проживание,
Взаимодействие, власть и неравенство. Но
в конце концов, Вебер приходит к выводу, что акторы определяют свое собственное поведение (Коэн, с.
78) представляется достойным рекомендации для социологических исследований. Слишком часто суждения о действиях
социальные акторы создаются другими без хорошего понимания позиции,
определение и положение действующего лица.
Последнее редактирование 18 января 2003 г.
Вернуться в раздел Социология 319
Теория социального действия (Вебер) — Toolshero
Теория социального действия: в этой статье вы найдете практическое объяснение теории социального действия Макса Вебера .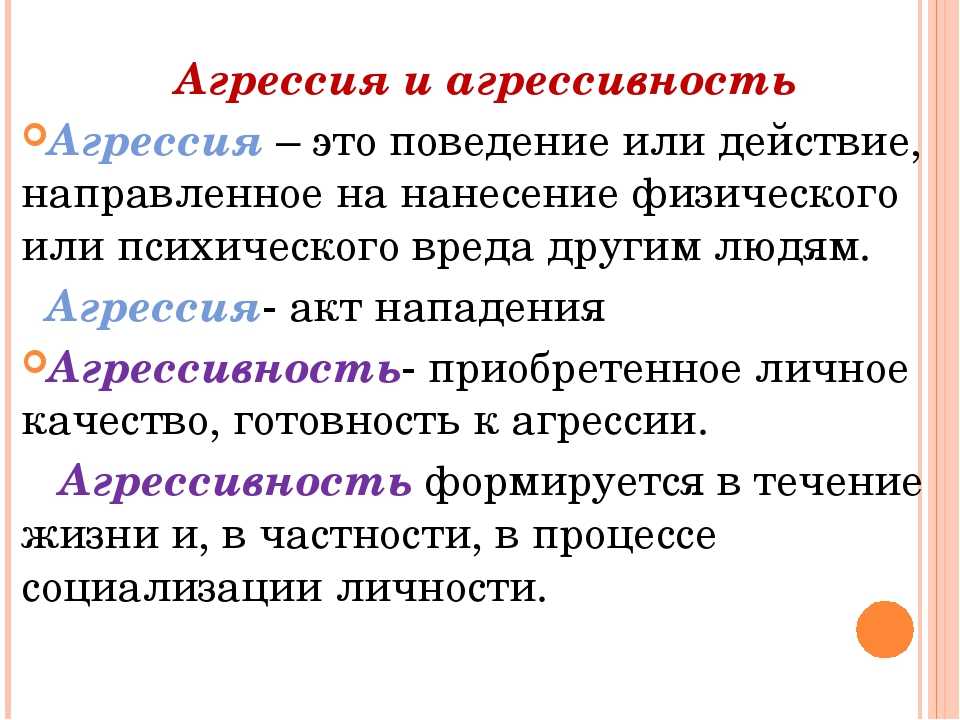 После прочтения вы поймете основные понятия этой социологической теории человеческого поведения и то, как это поведение влияет на поведение других людей, их взаимодействие и реакцию.
После прочтения вы поймете основные понятия этой социологической теории человеческого поведения и то, как это поведение влияет на поведение других людей, их взаимодействие и реакцию.
Что такое теория социального действия Макса Вебера?
Теория социального действия была разработана немецким социологом Максом Вебером, который с помощью этой теории стремился подчеркнуть важность человеческого поведения в связи с причиной и следствием (инструментально рациональным) в социальной сфере.
Согласно Максу Веберу, люди адаптируют свои действия в соответствии с социальным контекстом и тем, как эти действия влияют на поведение других.
Хотите неограниченный доступ без рекламы?
Для Макса Вебера социальное действие объясняет поведение, эффекты и последствия человеческого поведения и то, как это поведение может влиять на поведение других людей и становиться социальным движением, где оно больше не изолированное поведение, а часть целого.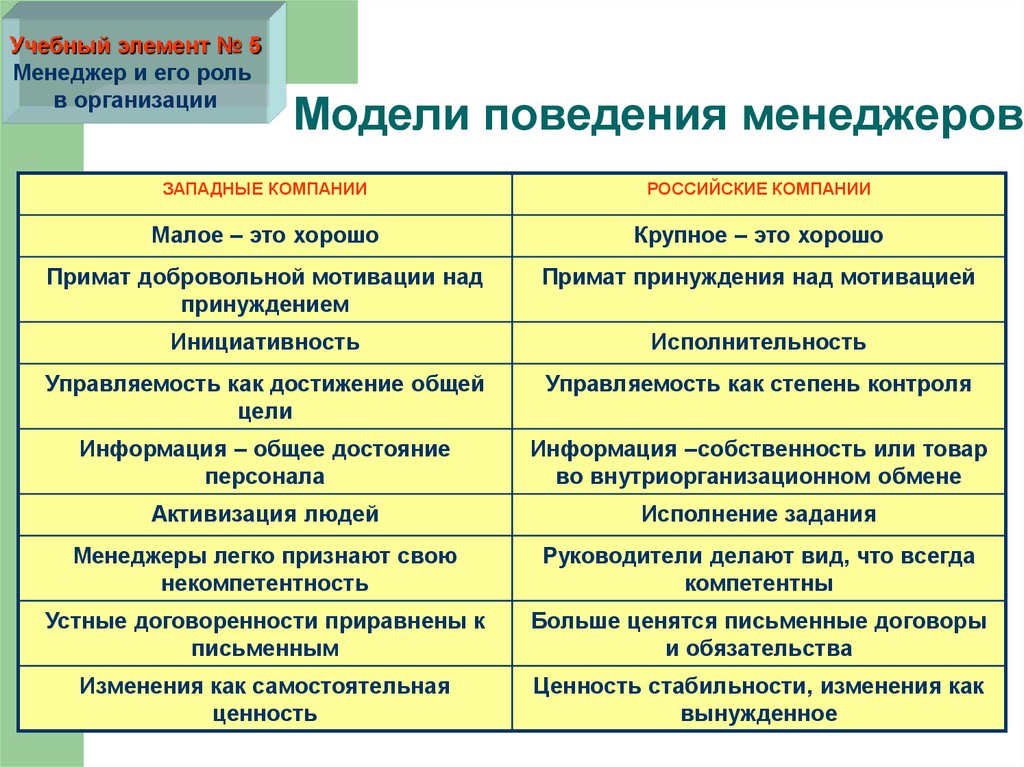 (общество). Вебер опирался на существующие исследования, чтобы доказать, что социология имеет фундаментальное значение для научных исследований.
(общество). Вебер опирался на существующие исследования, чтобы доказать, что социология имеет фундаментальное значение для научных исследований.
Согласно Максу Веберу, социальное действие может запускать средства и цели для социальных акторов и социального взаимодействия, которые хотят достичь чего-то определенного.
Например, компания организует деятельность для каждого человека и назначает каждому сотруднику свою роль, но каждое действие, выполняемое сотрудниками, связано друг с другом, чтобы поддерживать работу организации.
Обязанности и правила, которые берут на себя сотрудники, помогают организовать социальные действия, и эти люди взаимодействуют друг с другом в организации для достижения результатов, которых хочет организационная иерархия.
Суть теории можно резюмировать следующим предложением: Действия других развивают собственное поведение
Четыре типа социального действия по Веберу
В своей работе «Экономика и общество» (1921) Макс Вебер упоминает четыре формы социального действия:
1.
 Традиционное социальное действие (обычай)
Традиционное социальное действие (обычай)Это действия, являющиеся результатом традиций и обычаев и которые выполняются в определенных ситуациях.
Пример традиционной социальной акции
Каждое воскресенье обед с семьей. Традиционные действия могут стать культурным ориентиром. Традиция делится на две подгруппы: обычаи и привычки. Обычай — это практика, которая знакома, обычно практикуется и популяризируется в культуре.
Таможня, напротив, может передаваться из поколения в поколение. Привычка — это то, что постепенно усваивается, а иногда это то, что нормализуется в повседневной жизни и даже привязывается к личности человека.
2. Аффективное социальное действие
Также известное как эмоциональное действие, когда человек действует импульсивно и не обязательно думает о последствиях.
Пример аффективного социального действия
Плач при победе или плач на похоронах — это аффективные социальные действия. Это социальное действие делится на две подгруппы: неконтролируемая реакция и эмоциональное напряжение.
При неконтролируемой реакции человек меньше принимает во внимание чувства других и ставит в центр внимания собственные чувства человека. Эмоциональное напряжение — это разочарование, которое может возникнуть у человека, когда он не реализует свои стремления, и именно тогда внутреннее напряжение создает неудовлетворенность.
3. Рациональное социальное действие с ценностями
Это социальное действие, рациональное действие характеризуется моральными или этическими принципами, которые реализуются коллективно на благо общества. Поэтому рациональное действие руководствуется идеологией или коллективной этикой.
Рациональное социальное действие с ценностями Пример
Религия.
4. Рационально-инструментальное социальное действие
Это действия, которые осуществляются для достижения определенного результата.
Рационально-инструментальное социальное действие Пример
Наталье 19 лет, и она хочет изучать медицину, однако она осознает, что ей нужно сдать строгий экзамен, чтобы иметь возможность поступить в университет и изучать то, что она хочет изучать . Этот экзамен заставляет Наталью заниматься каждый день, чтобы сдать экзамен и, наконец, заняться медициной.
Этот экзамен заставляет Наталью заниматься каждый день, чтобы сдать экзамен и, наконец, заняться медициной.
Если принять во внимание этот пример из повседневной жизни, то можно понять желание Натальи достичь своей цели и то, что она должна для этого сделать.
Затем Наталья применяет социальное инструментальное социальное действие, потому что каждый шаг, который она предпринимает для достижения своей цели, будет иметь положительные или отрицательные последствия в зависимости от того, как она выполняет этот процесс, в этом случае ее процесс — это процесс дисциплины и обучения.
Каждое из этих состояний действия имеет свои преимущества, некоторые из которых описаны ниже.
Теория социального действия преимущества 4 действий
В приведенном выше примере можно выполнить другие отсутствующие социальные действия, которые действительно сошлись бы в поведении Натальи, чтобы она могла учиться в медицине. Наталья, под влиянием требований университета, чтобы иметь возможность поступить в медицинский институт, отправляется в путешествие, чтобы достичь своей конечной цели.
Благодаря этому ее поведение соответствует требованиям университета, в которых она нуждается. Ее аффективность и эмоции вызывают у Натальи желание пойти в медицину из-за личных заслуг, а также потому, что ее отец и дед были врачами, что Наталья хочет уважать, чтобы пойти по стопам своей семьи.
Для этого Наталья должна быть логичной и рациональной из-за экзамена, который она должна выиграть, поэтому решимость и поведение Натальи формируются университетом, в который она хочет поступить, чтобы иметь возможность учиться.
Теория социального действия: виды господства по Веберу
Для проявления воли над другими, по Веберу, существуют следующие виды господства:
Харизматическое господство
Это господство силы, которая осуществляется над другим, это часто наблюдается у лидеров.
Традиционное господство
Это господство, которое можно найти в религиозных или других типах культов, которые осуществляются как традиции, передаваемые из поколения в поколение.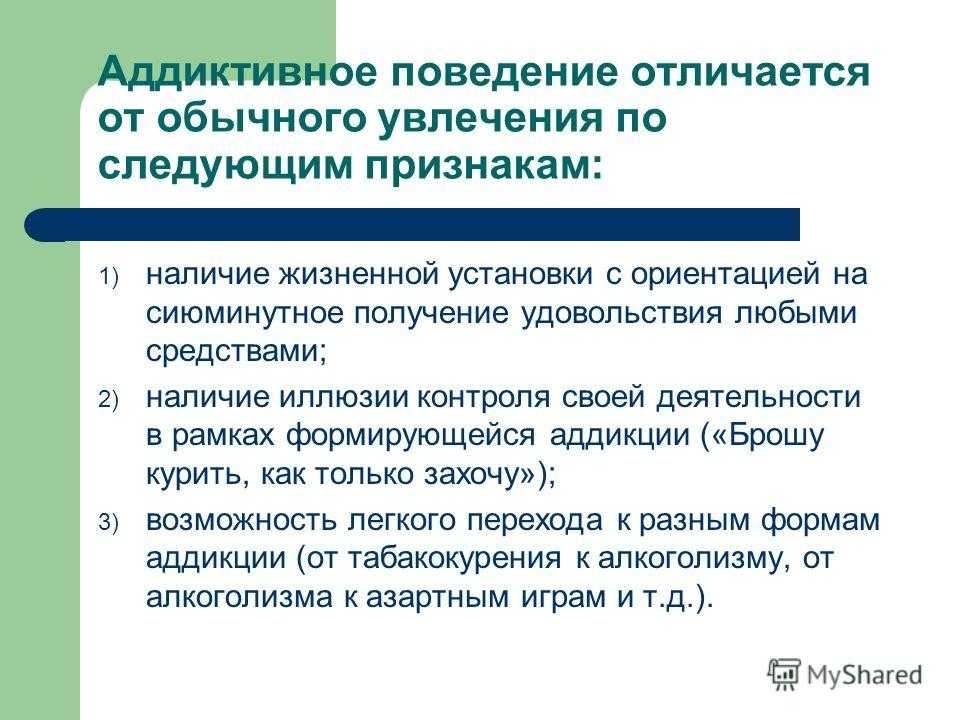
Рациональное правовое господство
Тип господства современной эпохи, основанный на законах и конституции и которому подчиняются все люди. Это означает, что это то, чему следуют все люди, поскольку это социальная ответственность и уважение к власти.
С вышесказанным Вебер связывает идеальные типы, с которыми имеет дело социология. Эти типы помогают понять реальность социальных явлений. Чистых социальных типов не бывает, но они всегда смешанные.
Влияние социального действия
Для Макса Вебера на социальное действие влияют прошлое, настоящее и будущее. Поэтому социальное действие в результате со временем претерпевает какие-то изменения. Социальное действие может постоянно развиваться по мере изменения времени, и человеческое поведение может развиваться, улучшаться, модифицироваться или изменяться.
Социальное действие не может быть изолировано, поскольку оно требует поведения людей и того, как они могут определенным образом влиять на поведение других людей в рамках своей социальной структуры.
Критерии социального характера действия
- Люди должны учитывать поведение и существование других как свои собственные.
- Намерение, направленное на других людей
- Значение: действие субъекта должно иметь символическое значение.
- На поведение людей в социальном действии влияет их восприятие значимости действий других и их собственных действий.
Макс Вебер против Эмиля Дюркгейма
Для Макса Вебера социальное действие имеет субъективное определение, тогда как для Эмиля Дюркгейма социальное действие объективно.
Различия между социальным действием и социальными фактами
Чтобы понять разницу между этими двумя теориями, обе из которых имеют большое значение в социологии, необходимо сначала понять, что такое Теория социальных фактов, разработанная Эмилем Дюркгеймом, французским социологом. и философ.
Социальные факты влекут за собой поведение, способ видения, мышления, действия и чувства, которые являются внешними по отношению к сознанию.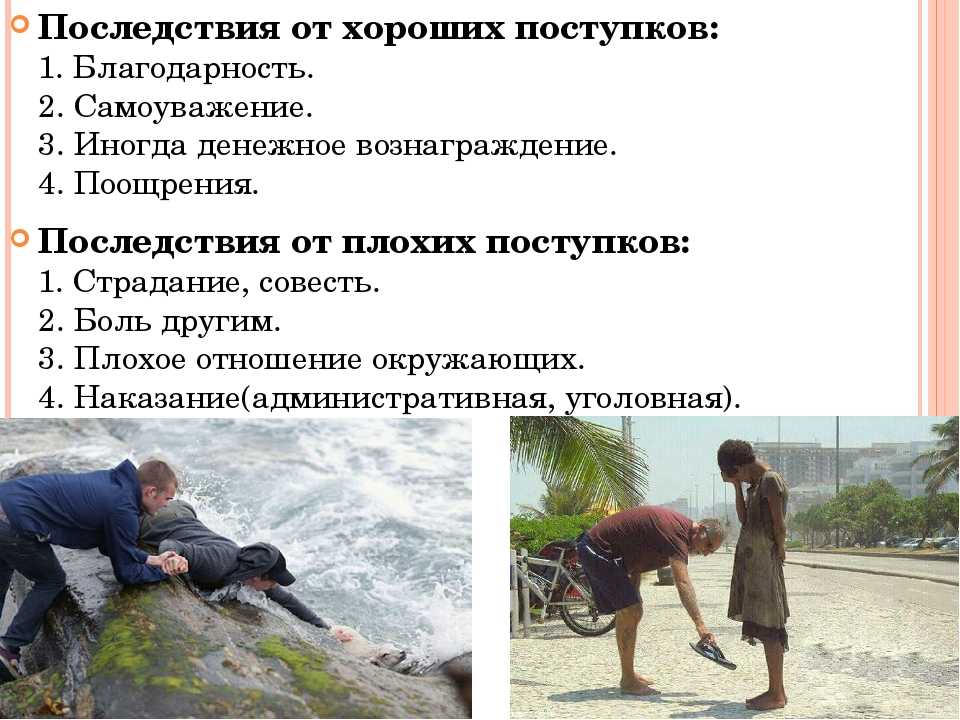 Это в социальной группе может уважаться или не уважаться и может делиться или не разделяться.
Это в социальной группе может уважаться или не уважаться и может делиться или не разделяться.
Это означает, что социальный факт есть способ чувствовать и жить вне, таким образом ориентируя их поведение. Для Эмиля Дюркгейма социальный факт состоит из культурных ценностей, которые заставляют субъектов действовать определенным образом.
Таким образом, он усваивает свою внешность и может адаптировать ее к своему поведению, сознательно или бессознательно трансформируя ее, чтобы действовать и мыслить определенным образом.
Социальные факты навязываются, нравится это людям или нет.
Напротив, Макс Вебер со своей Теорией социального действия объясняет, что поведение людей строится посредством взаимодействия одного или нескольких субъектов, которые изменяют свое поведение под влиянием другого.
Краткий обзор теории социального действия
Теория социального действия не является имитацией поведения человека. Социальное действие выходит за рамки воспроизведения или имитации, которые могут быть осуществлены людьми.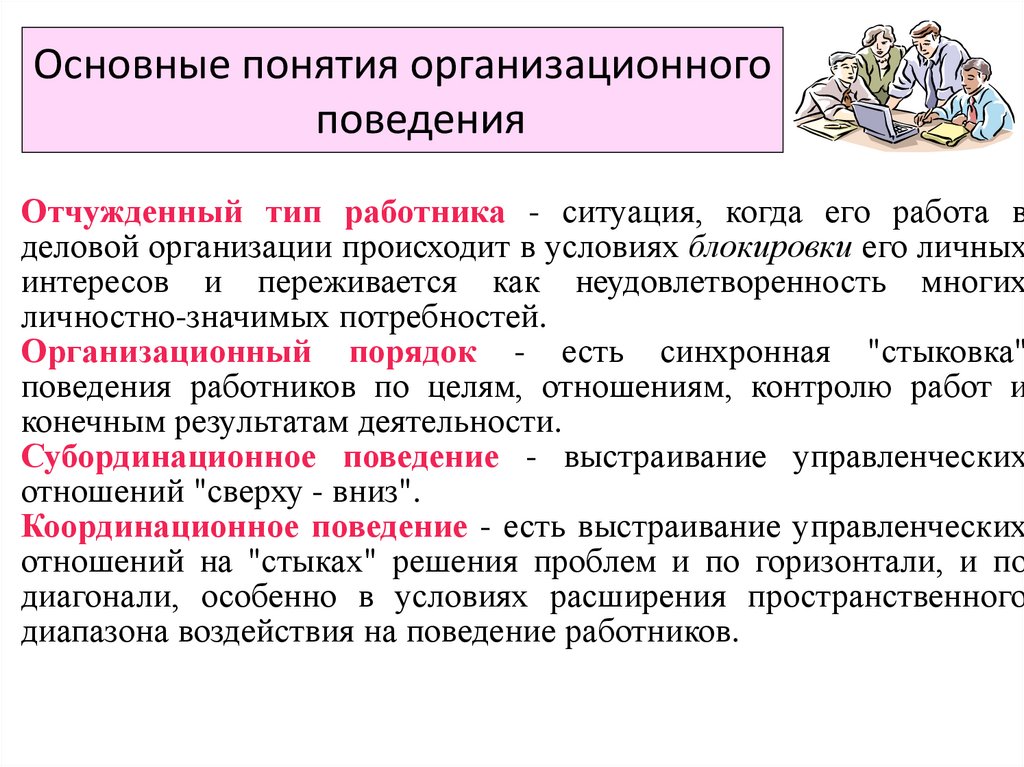
Макс Вебер рассматривает социальное действие как субъективную форму, которую человек может иметь в своем образе мышления и действия, и то, как эти формы могут влиять на поведение других, формируя общество по мере того, как оно взаимодействует и связывается с другими. Группа людей с похожим поведением, которые верят во что-то родственное, не забывая при этом о своей личности.
Теория социального действия Макса Вебера разделила типы социального действия на 4 упомянутые выше категории: традиционное социальное действие, аффективное социальное действие, рациональное социальное действие с ценностями и инструментальное социальное действие. Они направляют это теоретическое исследование, чтобы понять действия человека в обществе и то, как поведение проистекает из субъективности и может влиять на поведение других людей.
С помощью социальных действий, объясненных Вебером, были сформированы культуры, способы мышления и действия в сообществе, которые начинаются с человека и обобщаются другими (обществом). Эти социальные действия претерпели трансформации и модификации с течением времени.
Эти социальные действия претерпели трансформации и модификации с течением времени.
Получайте обновления от Toolshero о новых методах, моделях и теориях!
Теперь ваша очередь
Что вы думаете? Верите ли вы, что Теория социального действия по-прежнему оказывает большое влияние на человеческое поведение сегодня? Изучали ли вы ранее Теорию социального действия Макса Вебера, если да, расскажите нам об этом или поделитесь своими мыслями по этому поводу. Есть ли у вас какие-либо предложения или что-то еще, чтобы добавить?
Поделитесь своим опытом и знаниями в поле для комментариев ниже.
Дополнительная информация
- Экстрем, М. (1992). Каузальное объяснение социального действия: вклад Макса Вебера и критического реализма в генеративный взгляд на каузальное объяснение в социальных науках . Acta Sociologica, 35(2), 107-122.
- Джонс, П., Брэдбери, Л., и ЛеБутилье, С. (2011). Знакомство с социальной теорией .
 Политика.
Политика. - Гейн, Н. (2005). Макс Вебер как социальный теоретик: «Класс, статус, партия ’. Европейский журнал социальной теории, 8(2), 211-226.
Как цитировать эту статью:
Оспина Авендано, Д. (2021). Теория социального действия (Вебер) . Получено [указать дату] с сайта toolshero: https://www.toolshero.com/sociology/social-action-theory/
Опубликовано: 06.12.2021 | Последнее обновление: 15.03.2022
Добавьте ссылку на эту страницу на свой сайт:
toolshero: Теория социального действия (Вебер)
Вы нашли эту статью интересной?
Ваша оценка более чем приветствуется или поделитесь этой статьей в социальных сетях!
Средняя оценка 4.4 / 5. Всего голосов: 12
Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.
Сожалеем, что этот пост не был вам полезен!
Давайте улучшим этот пост!
Расскажите, как мы можем улучшить этот пост?
Метки: Социальная психология
Теория социального действия — Сайт изучения истории
Теория социального действия была основана Максом Вебером. Есть два основных типа социологических теорий; первая — это структурная или макротеория, а другая — социальное действие, интерпретация или микроперспективы. На двух концах спора о том, какая теория лучше, стоят Дюркгейм, отец-основатель функционализма, и Вебер, вдохновитель теории социального действия.
Есть два основных типа социологических теорий; первая — это структурная или макротеория, а другая — социальное действие, интерпретация или микроперспективы. На двух концах спора о том, какая теория лучше, стоят Дюркгейм, отец-основатель функционализма, и Вебер, вдохновитель теории социального действия.
Как следует из названия «микро», перспективы социальных действий исследуют более мелкие группы в обществе. В отличие от структурализма, они также занимаются субъективными состояниями людей. В отличие от структуралистской точки зрения, теоретики социального действия рассматривают общество как продукт человеческой деятельности.
Теория социального действия
Пожалуйста, включите JavaScript
Теория социального действия
Структурализм — это нисходящая детерминистская перспектива, которая исследует, как общество в целом подходит друг другу. И функционализм, и марксизм являются структуралистскими взглядами: как таковые, они оба воспринимают человеческую деятельность как результат социальной структуры.
Гидденс «Теория структурирования» (1979) рассматривает теорию структуры и теории действия как две стороны одной медали: структуры делают возможным социальное действие, но социальное действие создает структуры. Он называет это «двойственностью структуры ». Критики Гидденса, такие как Арчер (1982) или (1995), утверждают, что он слишком много внимания уделял способности человека изменять социальную структуру, просто действуя по-другому.
Интересно, что, хотя Вебер считал социологию изучением социального действия, он также выступал за сочетание структуралистского и интерпретативного подходов в своем общем подходе к исследованию.
Макс Вебер считал, что именно социальные действия должны быть в центре изучения социологии. Для Вебера «социальное действие» — это действие, осуществляемое индивидом, которому индивид придает значение.
Следовательно, действие, о котором человек не думает, не может быть социальным действием. Например. Случайное столкновение велосипедов не является социальным действием, поскольку оно не является результатом какого-либо сознательного мыслительного процесса. С другой стороны, у резчика по дереву есть мотив, намерение, стоящее за этим действием. Следовательно, это «социальное действие».
Например. Случайное столкновение велосипедов не является социальным действием, поскольку оно не является результатом какого-либо сознательного мыслительного процесса. С другой стороны, у резчика по дереву есть мотив, намерение, стоящее за этим действием. Следовательно, это «социальное действие».
Социологи социального действия отвергают взгляды структуралистов. Однако Вебер признает существование классов, статусных групп и партий, но оспаривает точку зрения Дюркгейма о том, что общество существует независимо от индивидов, составляющих общество. Феноменология и этнометодология отрицают существование какой бы то ни было социальной структуры.
Большинство взглядов сторонников социального действия и интерпретаций отрицают существование четкой социальной структуры, управляющей человеческим поведением. Однако те, кто верит в социальную структуру, считают, что она формируется отдельными людьми.
Вебер указывал на два типа понимания:
«Aktuelles verstehen», то есть непосредственное наблюдательное понимание.
И «erklärendes verstehen», где социолог должен попытаться понять значение действия с точки зрения мотивов, которые его породили. Чтобы достичь такого понимания, вы должны поставить себя на место человека, чье поведение вы объясняете, чтобы попытаться понять его мотивы.
В теории социального действия Вебер считает, что бюрократические организации являются доминирующими институтами в обществе. Вебер считает, что бюрократии (институтов) состоят из индивидуумов, осуществляющих рациональных социальных действий, предназначенных для достижения целей бюрократии. Вебер рассматривает все развитие современных обществ как движение к рациональному социальному действию. Таким образом, современные общества проходят процесс рационализации.
Вебер утверждает, что все действия человека управляются значениями. Он выделил различные типы действий, которые различаются значениями, на которых они основаны:
Аффективное или эмоциональное действие — это вытекает из эмоционального состояния человека в определенное время. Традиционное действие – основано на установившемся обычае; люди действуют определенным образом из-за врожденных привычек: они всегда поступали так. Рациональное действие – предполагает четкое осознание цели.
Традиционное действие – основано на установившемся обычае; люди действуют определенным образом из-за врожденных привычек: они всегда поступали так. Рациональное действие – предполагает четкое осознание цели.
Одним из основных исследований социального взаимодействия в системе образования является «Учимся работать — как дети из рабочего класса получают рабочие места » Пола Уиллиса.
Уиллис попытался выяснить значение, которое «ребята» придавали своим действиям и действиям других.
Интерпретационные исследования семьи направлены на изучение ее роли как одной из ключевых групп, в рамках которой мы разделяем наш опыт социального мира.
В этом он похож на функционалистский взгляд. Однако теоретики социального действия озабочены индивидуальными ролями в семье, а не отношением семьи к обществу в целом.
Используя интерпретативистский подход, Бергер и Кельнер (1964) утверждали, что людям необходимо осмысливать и создавать порядок в окружающем их мире, чтобы избежать аномии. Они также утверждали, что во все более обезличенном мире роль частной сферы брака и семьи необходима для самореализации человека, то есть осмысления его социального мира.
Они также утверждали, что во все более обезличенном мире роль частной сферы брака и семьи необходима для самореализации человека, то есть осмысления его социального мира.
Основным недостатком интерпретативистского подхода при исследовании семьи является тенденция игнорировать более широкую социальную структуру. Например, и марксисты, и феминистки утверждают, что способ построения ролей в семье — это не просто вопрос индивидуальных переговоров, а отражение того, как власть распределяется в обществе в целом.
Перспектива социального действия заключается в изучении того, как и почему определенные лица и группы определяются как «отклоняющиеся», где отклонение может быть определено как «поведение, которое не соответствует нормам определенной социальной группы». Такое определение может повлиять на их будущие действия в обществе.
Беккер (1963) считал, что то, как он интерпретировал «девиантность», заключалось в том, что действие становится девиантным только тогда, когда другие воспринимают его как таковое.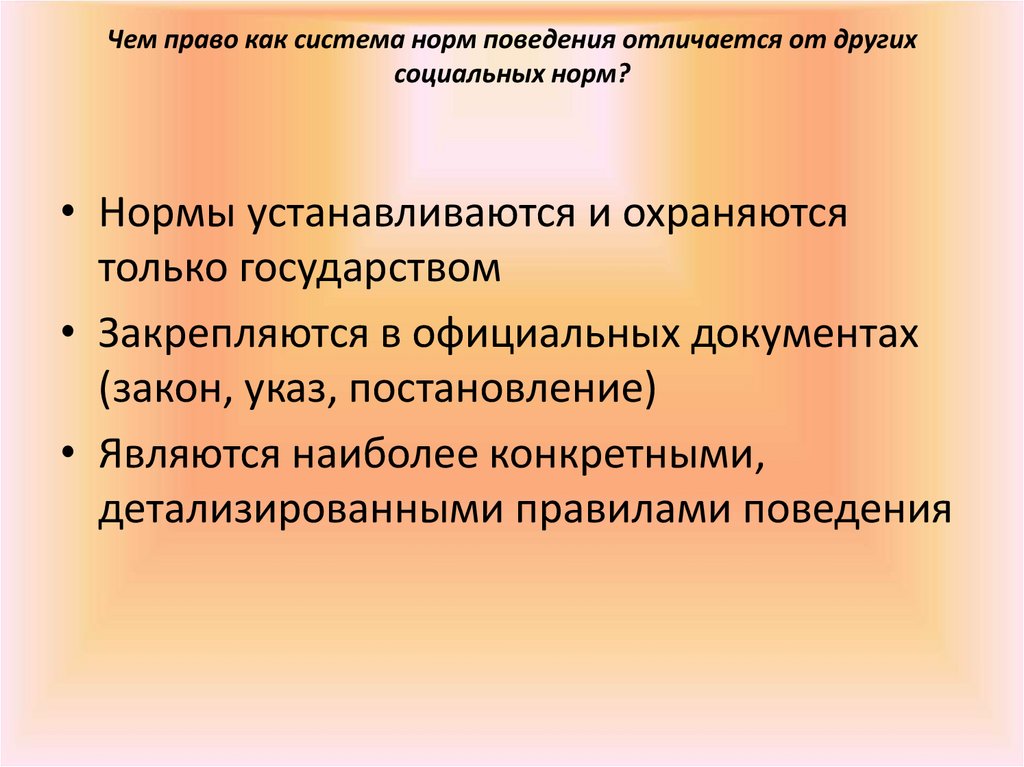
Интерпретаторы или теоретики социального действия используют качественные методы исследования, чтобы получить глубокое понимание человеческого поведения и причин, лежащих в основе такого поведения. Качественный метод исследует почему и как принятия решений, а не только что , где , когда. Примеры: наблюдение за участниками (открытое или скрытое) и неструктурированные интервью.
Теория социального действия позволяет исследователям лучше понять действия, лежащие в основе человеческого поведения, будь то «традиционные», «аффективные» или «рациональные».
Однако теория социального действия склонна игнорировать более широкую социальную структуру. Есть также мнение, что исследования предвзяты из-за субъективности исследователей, поэтому результаты являются, по крайней мере, частично «вымышленными» отчетами. Казалось бы, поскольку теория социального действия в целом субъективна, она не так «надежна», как структуралистские подходы, в которых исследования основаны на фактах.
Предоставлено Ли Брайантом, директором Sixth Form, англо-европейской школы, Ингейтстоун, Эссекс
Коллективное поведение | Введение в социологию
Результаты обучения
- Описывать различные формы коллективного поведения и различать типы толпы
- Сравните теоретические взгляды на коллективное поведение: взгляд на эмерджентную норму, теорию добавленной стоимости и взгляд на сборку
Рисунок 1. Все хорошо провели время? Некоторые флешмобы могут служить политическим протестом, а другие — развлечением. Целью этого флешмоба подушками было развлечение. (Фото предоставлено Mattwi1S0n:/flickr)
Вы когда-нибудь видели или участвовали во флешмобе ? Эти спонтанные собрания часто снимают на видео и размещают в Интернете; часто они даже становятся вирусными. Люди ищут связи и обмен опытом. Возможно, участие в флешмобе укрепит эту связь. Это, безусловно, прерывает нашу обыденную рутину напоминанием о том, что мы социальные животные.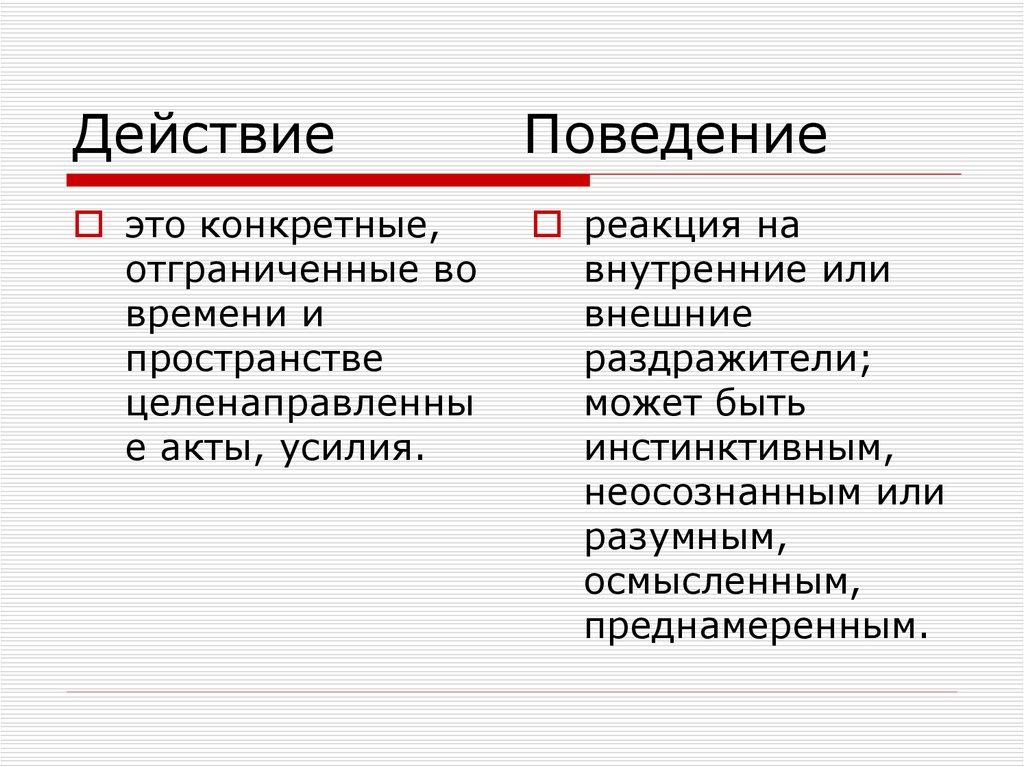
Формы коллективного поведения
Флэш-мобы являются примерами коллективного поведения , неинституциональной деятельности, в которой несколько людей добровольно участвуют в поведении, не регулируемом общественными нормами. Поэтому флешмоб подходит, а люди, которые просто идут по городской площади по дороге домой, — нет. Это не обязательно структурировано, поскольку популяция подростков, принимающих прическу любимого певца, также является примером коллективного поведения. Короче говоря, коллективное поведение — это любое групповое поведение, которое не санкционировано и не регулируется учреждением.
Коллективное поведение отличается от группового по трем причинам:
- Коллективное поведение предполагает ограниченные и кратковременные социальные взаимодействия, в то время как группы, как правило, дольше остаются вместе.
- Коллективное поведение не имеет четких социальных границ; любой может быть членом коллектива, в то время как групповое членство обычно более избирательно.

- Коллективное поведение порождает слабые и нетрадиционные нормы, в то время как группы, как правило, имеют более сильные и более традиционные нормы.
Существуют три основные формы коллективного поведения: толпа, масса и публика.
Чтобы сформировать толпу , требуется довольно большое количество людей в непосредственной близости (Lofland 1993). Примеры включают группу людей, пришедших на концерт Ани ДиФранко, сидевших сзади на игре «Патриоты» или пришедших на богослужение. Тернер и Киллиан (1993) выделили четыре типа толпы. Случайные толпы состоят из людей, которые находятся в одном и том же месте в одно и то же время, но на самом деле не взаимодействуют друг с другом, например, люди, стоящие в очереди на почте. Обычные толпы — это те, кто собирается вместе на запланированное мероприятие, которое происходит регулярно, например, на религиозную службу. Выразительные толпы — это люди, которые объединяются для выражения эмоций, часто на похоронах, свадьбах и т.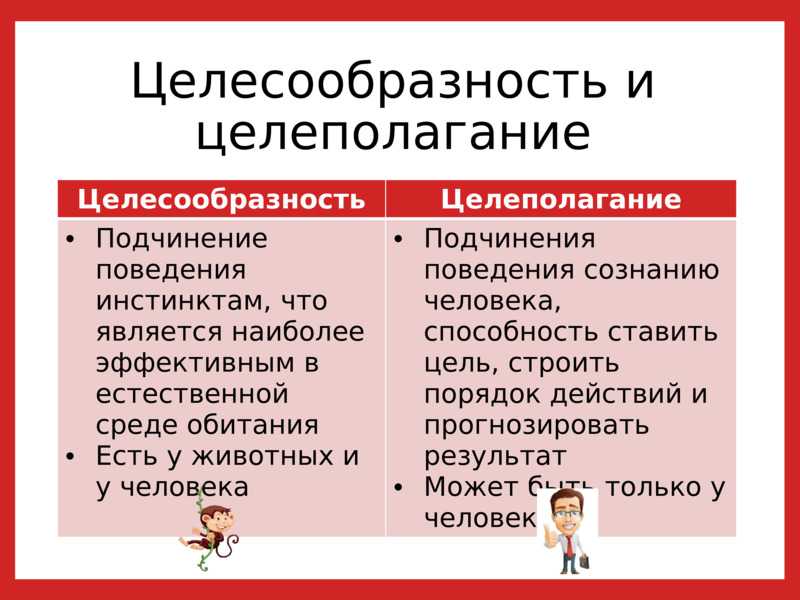 п. Последний тип, действующая толпа , фокусируется на конкретной цели или действии, таком как протестное движение или бунт.
п. Последний тип, действующая толпа , фокусируется на конкретной цели или действии, таком как протестное движение или бунт.
В дополнение к различным типам толпы, коллективные группы также можно идентифицировать двумя другими способами. А масса — это относительно большое количество людей с общими интересами, хотя они могут и не находиться в непосредственной близости друг от друга (Lofland 1993), например, игроки в игру Fortnite. Общественность , с другой стороны, представляет собой неорганизованную, относительно рассеянную группу людей, разделяющих идеи, например либертарианскую политическую партию. Хотя эти два типа толпы похожи, они не одинаковы. Чтобы различать их, помните, что у членов массы есть общие интересы, тогда как у членов публики общие идеи.
Watch It
В то время как сегодня среди социологов ведутся споры о том, что следует включать в понятие «коллективное поведение», часто включаются дополнительные виды поведения, такие как беспорядки, массовая истерия и причуды. Они объясняются ниже и в следующем видео.
Они объясняются ниже и в следующем видео.
- Бунт — это форма гражданских беспорядков, характеризующаяся внезапным и интенсивным нападением неорганизованных групп на насилие, вандализм или другие преступления. В то время как отдельные лица могут пытаться возглавить беспорядки или контролировать их, беспорядки обычно носят хаотичный характер и демонстрируют стадное поведение. Беспорядки часто возникают в ответ на предполагаемое недовольство или из-за несогласия. Исторически беспорядки происходили из-за плохих условий труда или жизни, притеснений со стороны правительства, налогообложения или призыва на военную службу, конфликтов между расами или религиями, результатов спортивных мероприятий или неудовлетворенности законными каналами, по которым можно было бы выразить недовольство. Беспорядки обычно связаны с вандализмом и уничтожением частной и государственной собственности. Беспорядки, хотя и разрушительные, часто играли роль в социальных изменениях.
- «Массовая истерия» — это фраза, используемая для описания большой группы людей, которые разделяют психическое состояние страха или беспокойства.

- Причуда — это мода, которая быстро становится заметной в культуре или субкультуре и остается популярной в течение короткого периода времени, прежде чем резко потерять свою привлекательность.
Попробуйте
Теоретические взгляды на коллективное поведение
Ранние теории коллективного поведения (LeBon, 1895; Blumer, 1969) концентрировались на иррациональности толпы. В конце концов, те теоретики, которые рассматривали толпы как неконтролируемые группы иррациональных людей, были вытеснены теоретиками, которые рассматривали поведение некоторых толп как рациональное поведение логических существ.
Перспектива эмерджентной нормы
Рисунок 2. Согласно эмерджентной норме, жертвы урагана Катрина искали необходимые для выживания припасы, но для посторонних их поведение обычно рассматривалось бы как мародерство. (Фото предоставлено Infrogmation/Wikimedia Commons)
Социологи Ральф Тернер и Льюис Киллиан (1993) опирались на более ранние социологические идеи и разработали так называемую теорию эмерджентной нормы.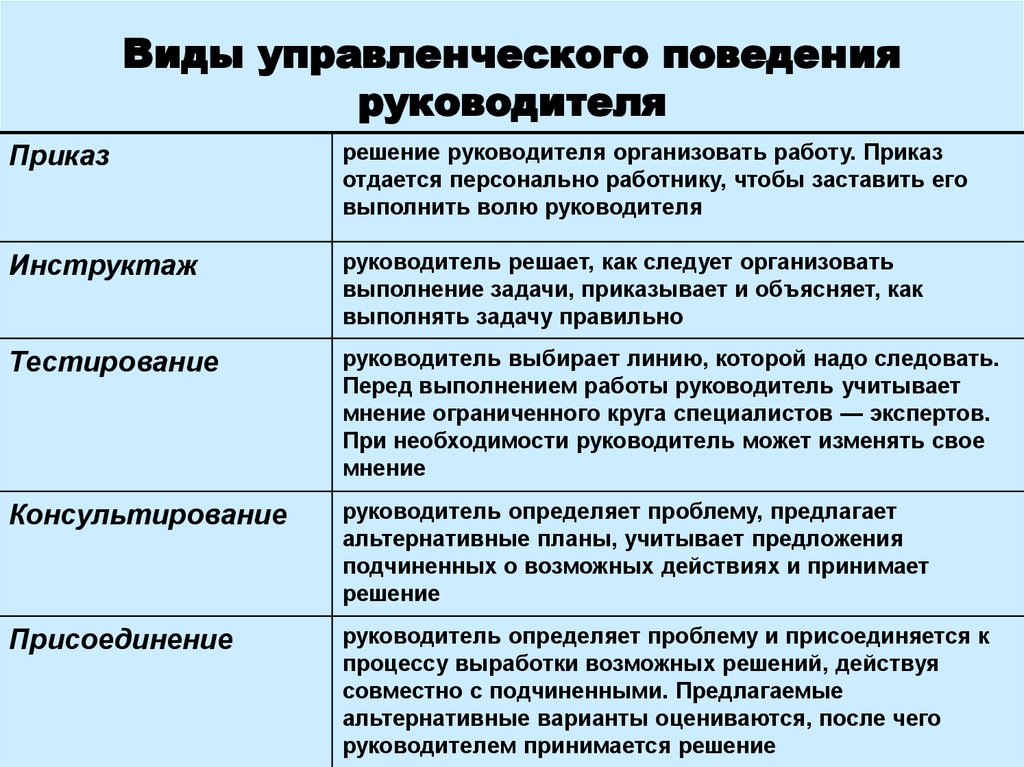 Они считают, что нормы, с которыми сталкиваются люди в толпе, могут быть несопоставимыми и изменчивыми. Они подчеркивают важность этих норм в формировании поведения толпы, особенно тех норм, которые быстро меняются в ответ на изменение внешних факторов. Теория эмерджентных норм утверждает, что в этих обстоятельствах люди воспринимают ситуацию в толпе и реагируют на нее своим особым (индивидуальным) набором норм, которые могут меняться по мере развития опыта толпы. Этот акцент на индивидуальном компоненте взаимодействия отражает точку зрения символического интеракционизма.
Они считают, что нормы, с которыми сталкиваются люди в толпе, могут быть несопоставимыми и изменчивыми. Они подчеркивают важность этих норм в формировании поведения толпы, особенно тех норм, которые быстро меняются в ответ на изменение внешних факторов. Теория эмерджентных норм утверждает, что в этих обстоятельствах люди воспринимают ситуацию в толпе и реагируют на нее своим особым (индивидуальным) набором норм, которые могут меняться по мере развития опыта толпы. Этот акцент на индивидуальном компоненте взаимодействия отражает точку зрения символического интеракционизма.
Для Тернера и Киллиана процесс начинается, когда люди внезапно оказываются в новой ситуации или когда существующая ситуация внезапно становится странной или незнакомой. Например, подумайте о поведении людей во время урагана Катрина. Новый Орлеан был опустошен, и люди оказались в ловушке без припасов и возможности эвакуироваться. В этих чрезвычайных обстоятельствах то, что посторонние считали «мародерством», участники определяли как поиск необходимых для выживания припасов. Обычно люди не заходили на угловую заправку и не брали консервы, не заплатив, но, учитывая, что они внезапно оказались в сильно изменившейся ситуации, они установили норму, которую они считали разумной.
Обычно люди не заходили на угловую заправку и не брали консервы, не заплатив, но, учитывая, что они внезапно оказались в сильно изменившейся ситуации, они установили норму, которую они считали разумной.
Как только люди оказываются в ситуации, не регулируемой ранее установленными нормами, они объединяются в небольшие группы, чтобы разработать новые правила поведения. Согласно эмерджентной норме, толпы не рассматриваются как иррациональные, импульсивные, неконтролируемые группы. Вместо этого нормы развиваются и принимаются в соответствии с ситуацией. Хотя эта теория предлагает понимание того, почему нормы развиваются, она оставляет неопределенной природу норм, как они принимаются толпой и как они распространяются среди толпы.
Теория добавленной стоимости
Нил Смелзер (1962) дотошная категоризация поведения толпы, названная теорией добавленной стоимости , , представляет собой перспективу в рамках функционалистской традиции, основанную на идее о том, что для возникновения коллективного поведения должны быть соблюдены несколько условий. Каждое условие увеличивает вероятность коллективного поведения.
Каждое условие увеличивает вероятность коллективного поведения.
- Первым условием является структурная благоприятная среда , , которая возникает, когда люди осознают проблему и имеют возможность собраться, в идеале на открытой местности.
- Структурная деформация , второе условие, относится к ожиданиям людей относительно сложившейся ситуации, которые не оправдались, вызывая напряженность и напряженность.
- Следующим условием является рост и распространение обобщенного убеждения , в котором проблема четко идентифицируется и приписывается человеку или группе.
- P реципитирующие факторы — четвертое условие, которое подстегивает коллективное поведение; это появление драматического события.
- Пятое условие — мобилизация к действию , когда появляются лидеры, чтобы направить толпу к действию. Последнее условие социального контроля, относится к действиям агентов и является единственным способом положить конец эпизоду коллективного поведения (Smelser 1962).

Рисунок 3. Агенты социального контроля кладут конец коллективному поведению. (Фото предоставлено hozinja/flickr)
Реальный пример таких условий произошел после смертельного выстрела полицией в подростка Майкла Брауна, невооруженного восемнадцатилетнего афроамериканца, в Фергюсоне, штат Миссури, 9 августа., 2014. Стрельба почти сразу привлекла внимание всей страны. Большая группа местных жителей, в основном чернокожих, собралась в знак протеста — классический пример структурной конструктивности. Когда общественность поняла, что полиция действует не в интересах людей и не раскрывает имя офицера, стало очевидным структурное напряжение. Растущее общее мнение возникло, когда толпу протестующих встретила хорошо вооруженная полиция в защитной форме военного образца в сопровождении бронетранспортера. Ускоряющий фактор прибытия полиции стимулировал более коллективное поведение, поскольку жители мобилизовались, устроив парад по улице. В конечном итоге они были встречены слезоточивым газом, перцовым баллончиком и резиновыми пулями, которые использовала полиция, выступая в качестве агентов общественного контроля. Элемент общественного контроля усилился в последующие дни до 18 августа, когда губернатор вызвал Национальную гвардию.
Элемент общественного контроля усилился в последующие дни до 18 августа, когда губернатор вызвал Национальную гвардию.
Сборка перспективы
Кларк Макфейл (1991), символический интеракционист, разработал перспективу сборки, другую систему понимания коллективного поведения, которая считала индивидуумов в толпе разумными существами. В отличие от предыдущих теорий, эта теория переориентирует внимание с коллективного поведения на коллективные действия. Помните, что коллективное поведение — это неинституциональное собрание , тогда как коллективное действие — это на основе общего интереса . Теория Макфейла сосредоточена в первую очередь на процессах, связанных с поведением толпы, а также на жизненном цикле собраний. Он выявил несколько случаев конвергентного или коллективного поведения, как показано на диаграмме ниже.
Как бы это ни было полезно для понимания компонентов того, как собираются вместе толпы, многие социологи критикуют отсутствие внимания к большому культурному контексту описываемого поведения, вместо этого сосредотачиваясь на индивидуальных действиях.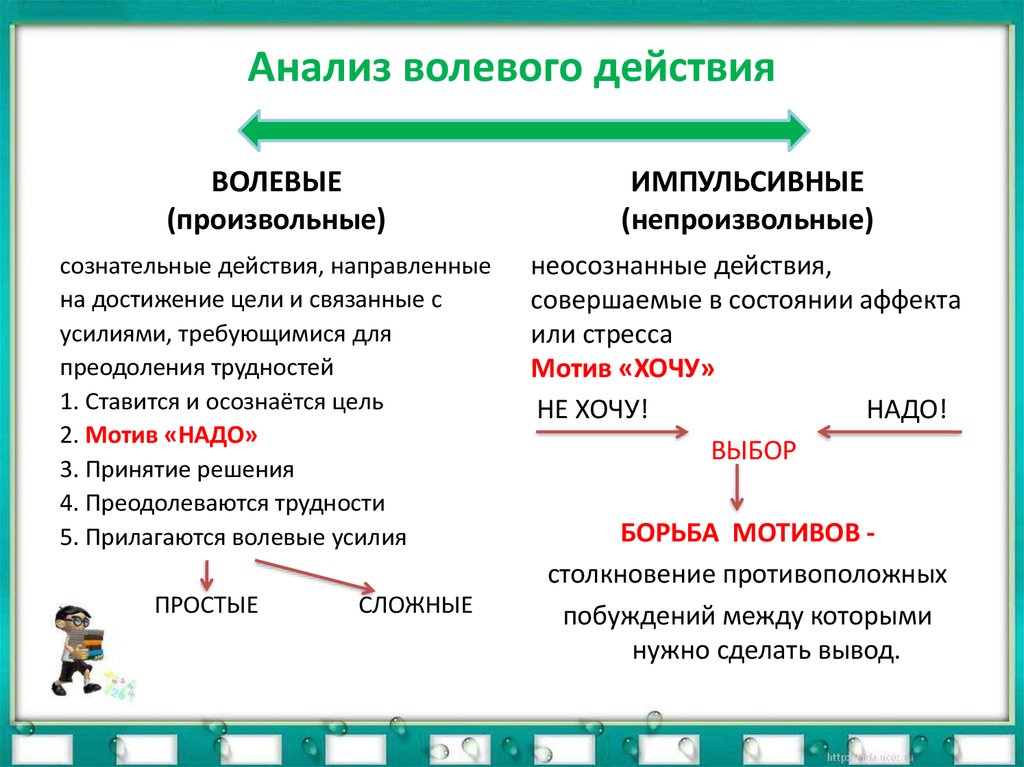
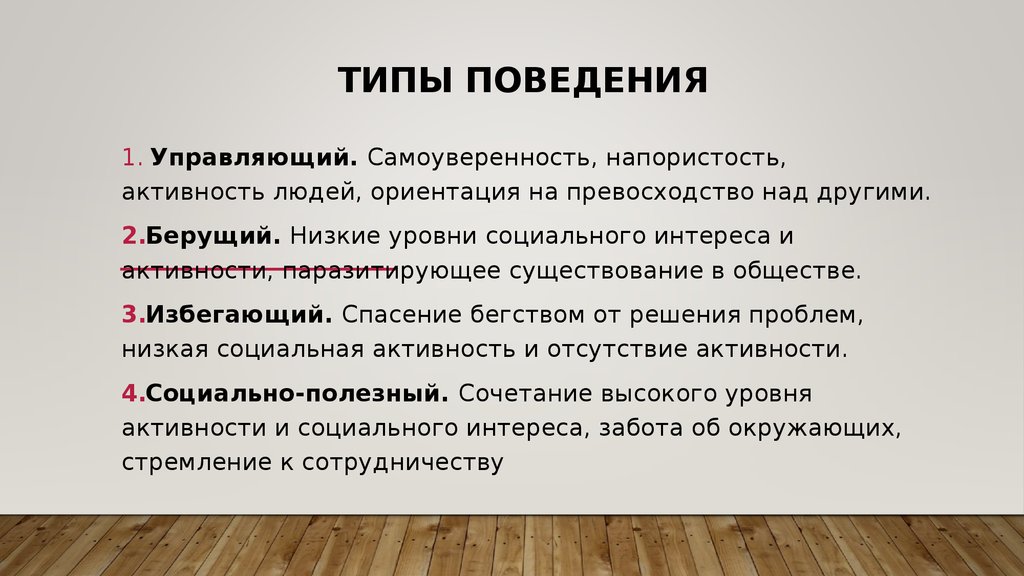


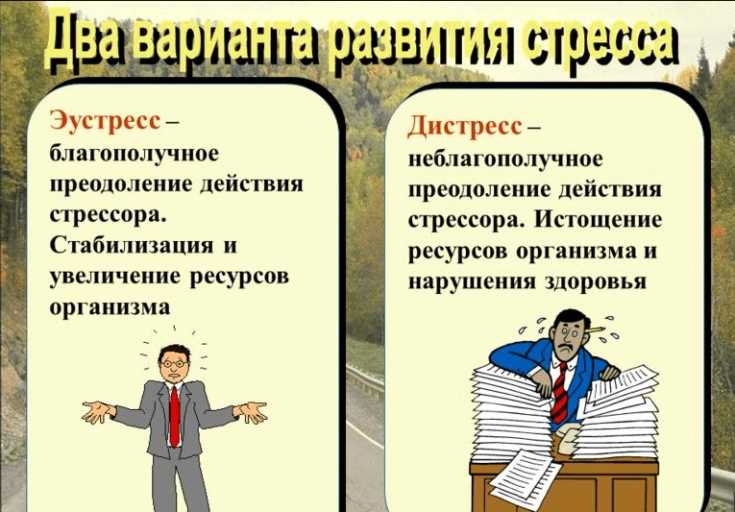

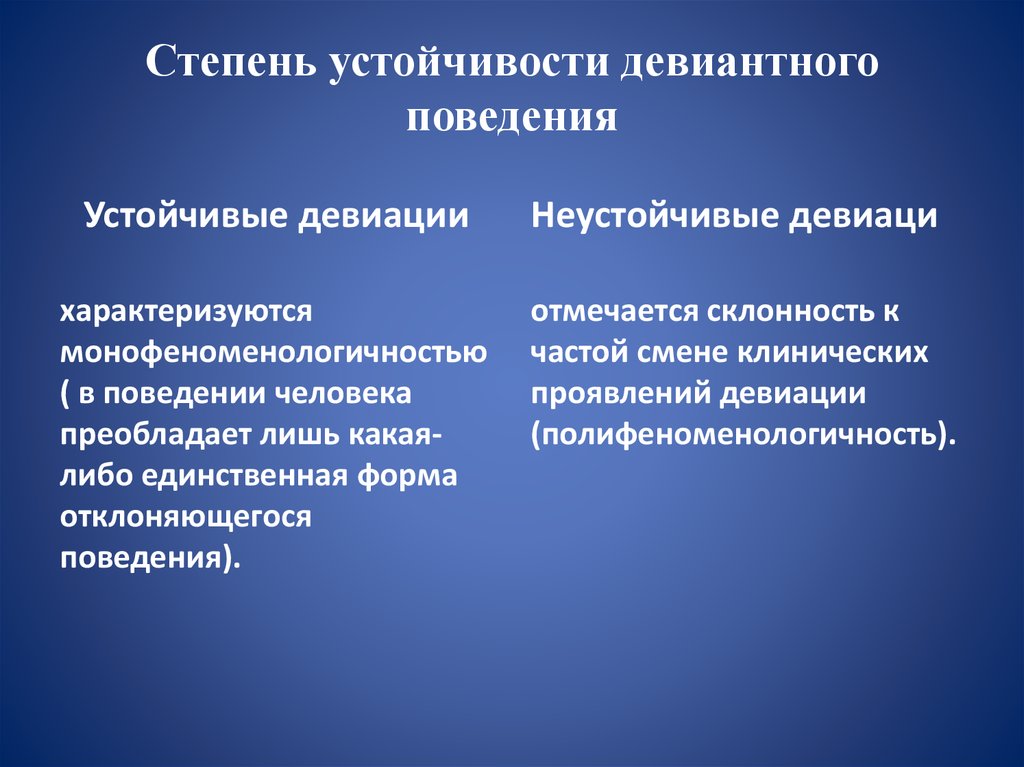

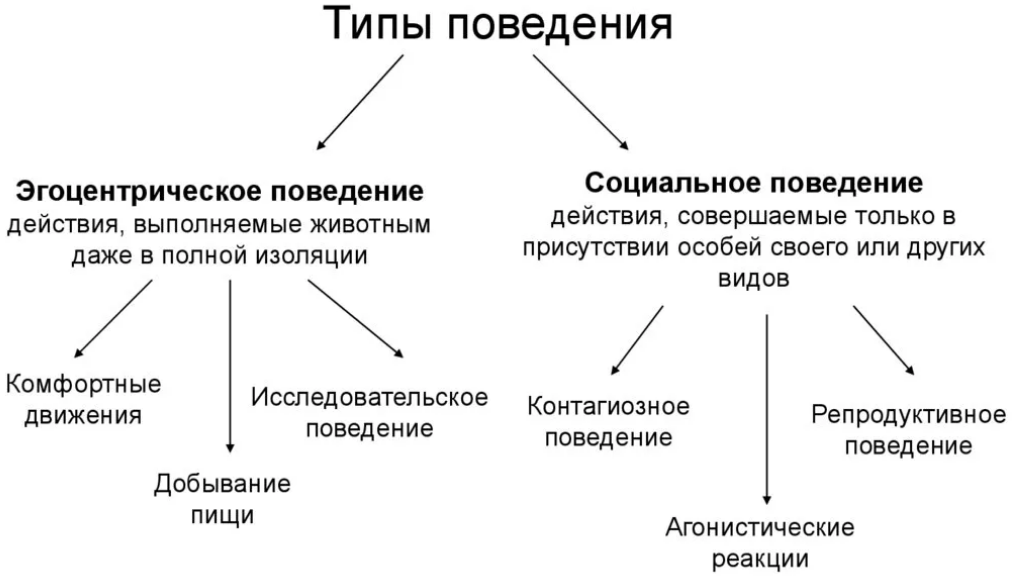

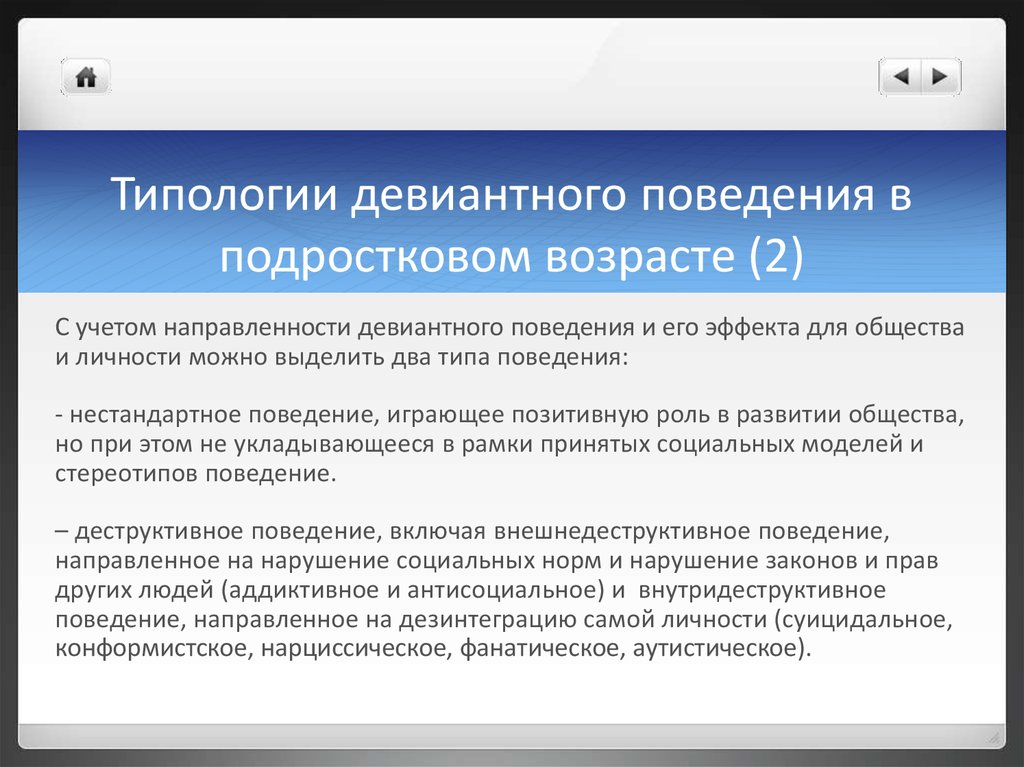 Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/intention/.
Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/intention/. Reidel.
Reidel.
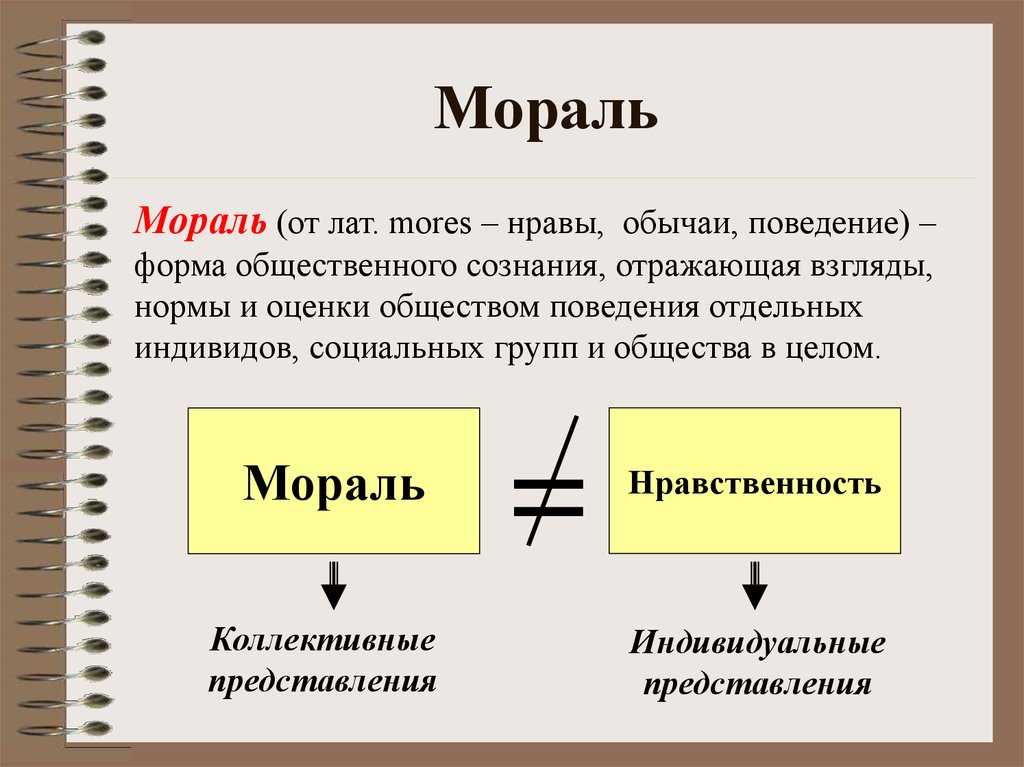
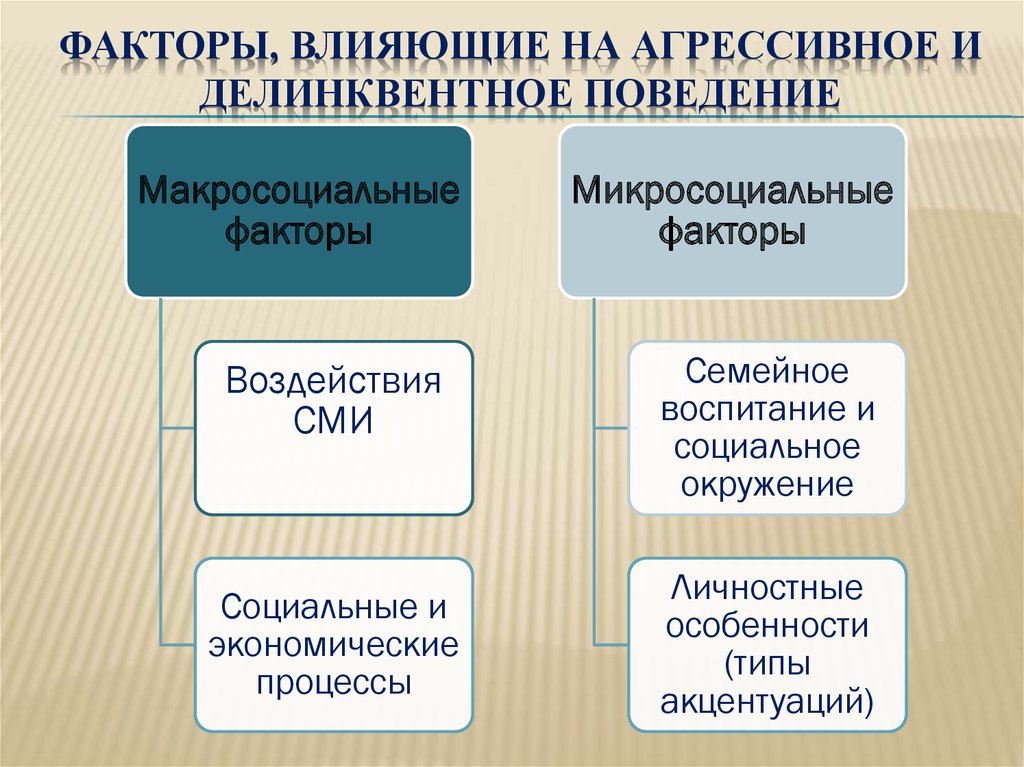
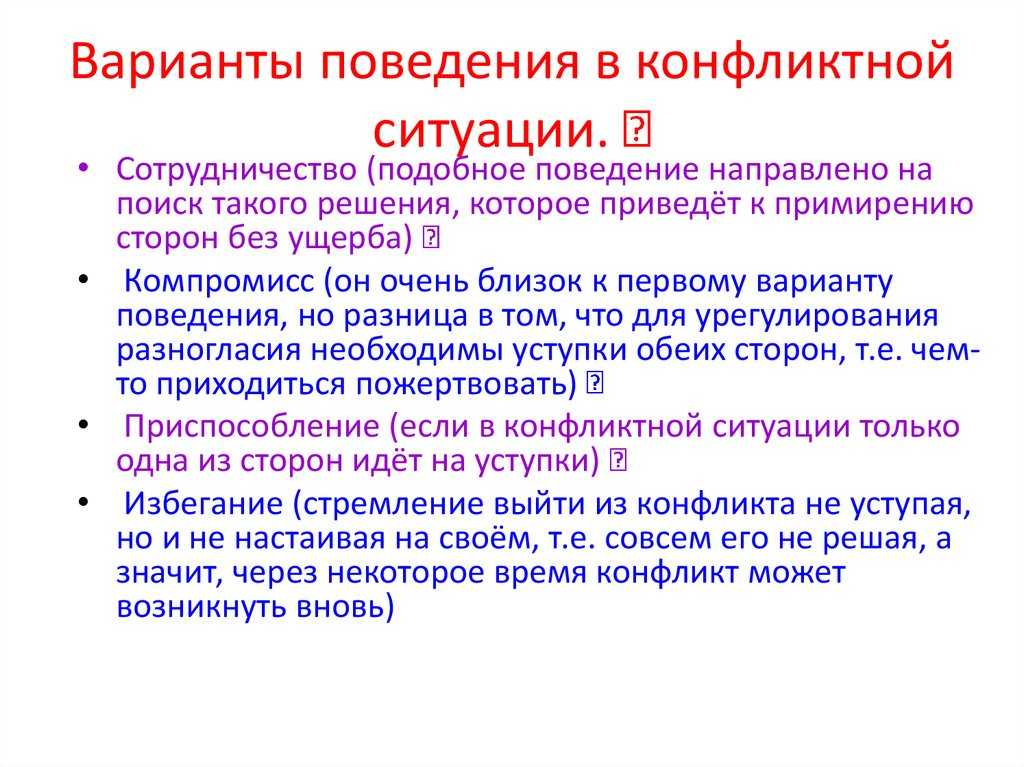
 sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720604000163
sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720604000163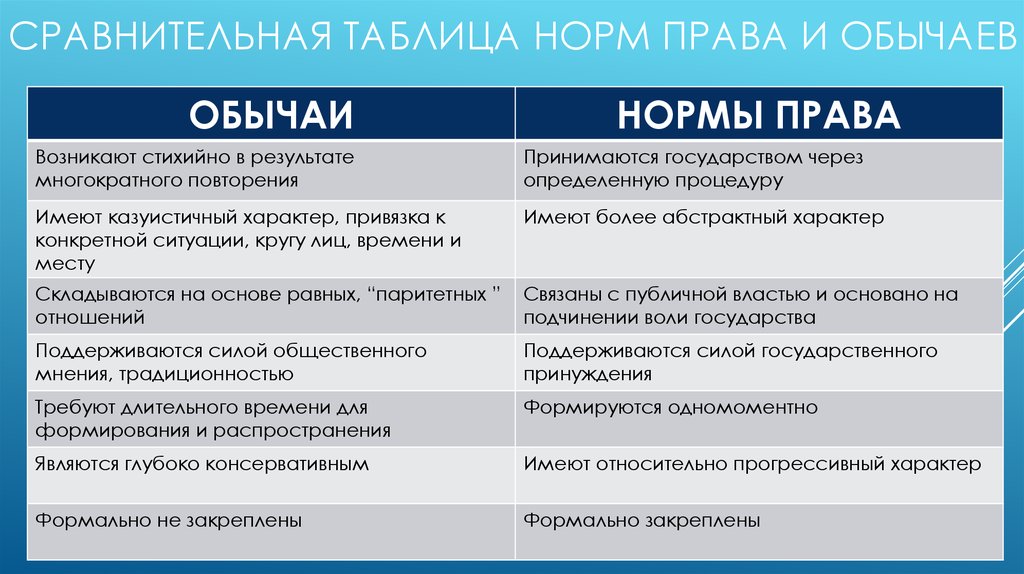

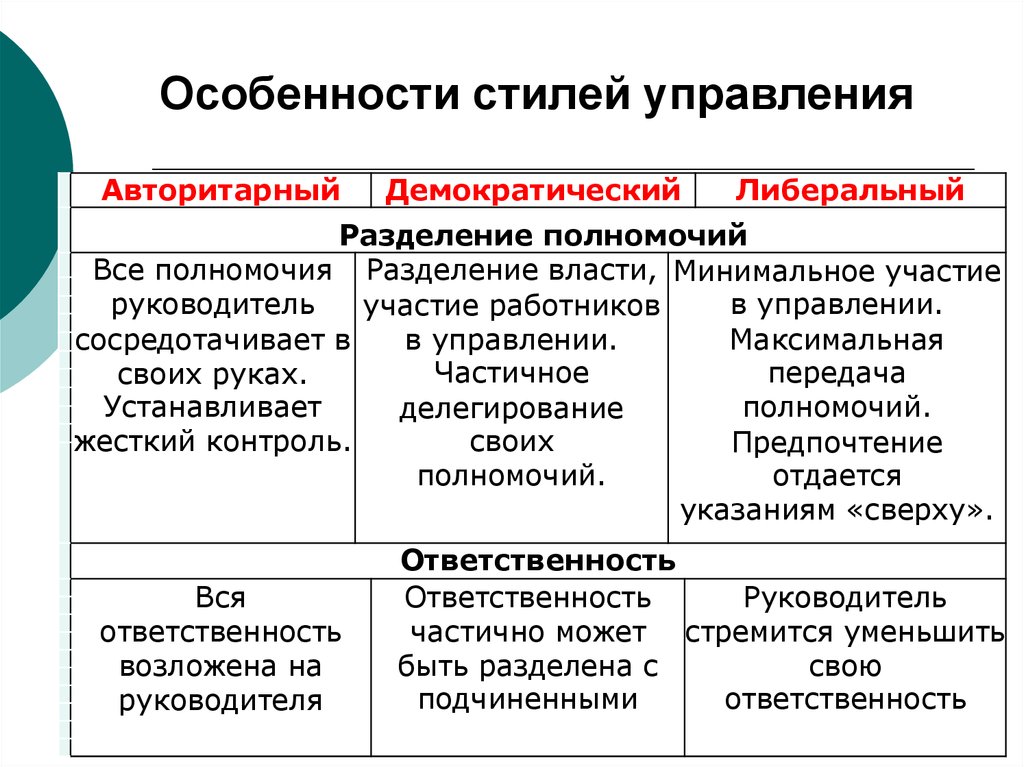
 1079
1079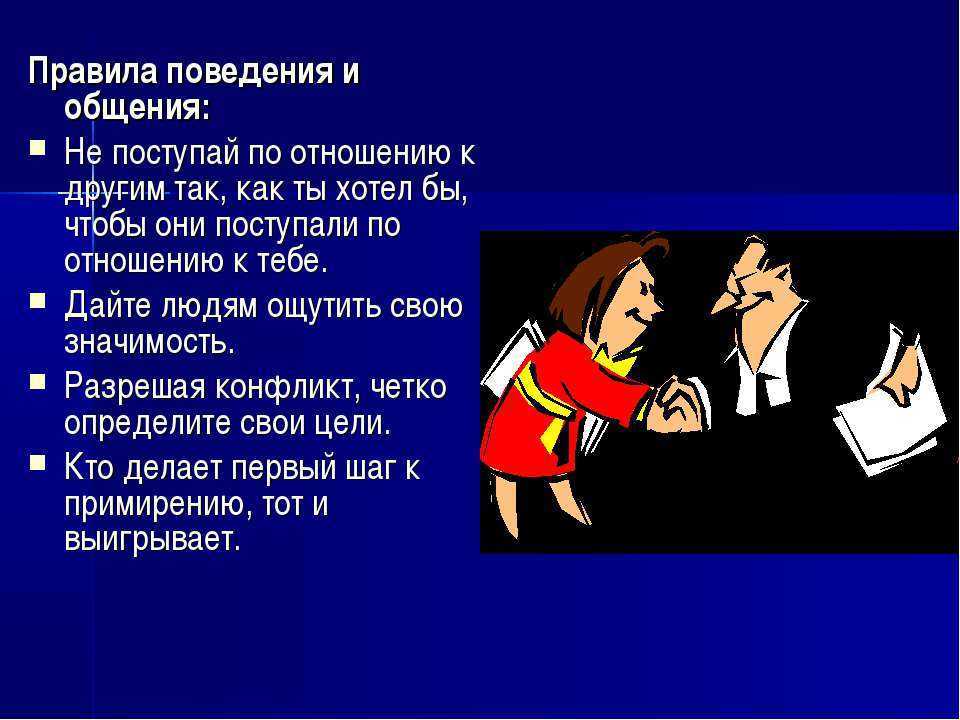
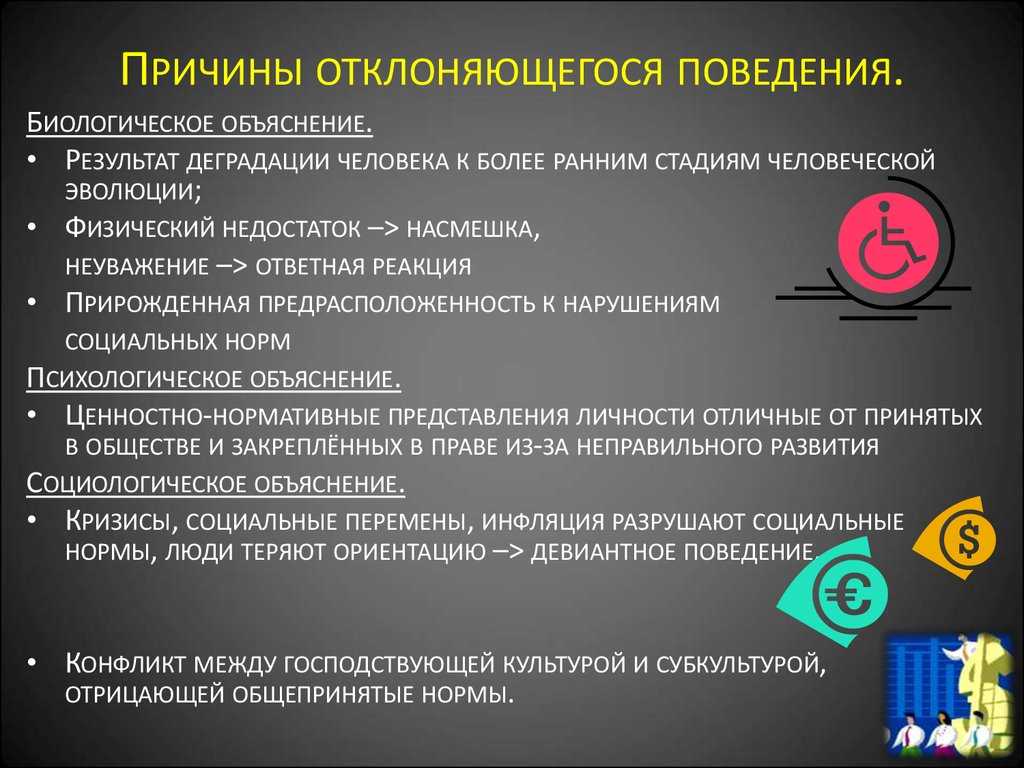
 =26
, pass=HMRC заявила, что одной из причин, по которой они не приняли меры по ее апелляции, было то, что она указала в своей апелляционной форме: «Я подаю апелляцию на переплату по уходу за ребенком за 2003-04, 2004-05», таким образом подразумевая, что она оспаривает ее ‘переплата’.}}
=26
, pass=HMRC заявила, что одной из причин, по которой они не приняли меры по ее апелляции, было то, что она указала в своей апелляционной форме: «Я подаю апелляцию на переплату по уходу за ребенком за 2003-04, 2004-05», таким образом подразумевая, что она оспаривает ее ‘переплата’.}}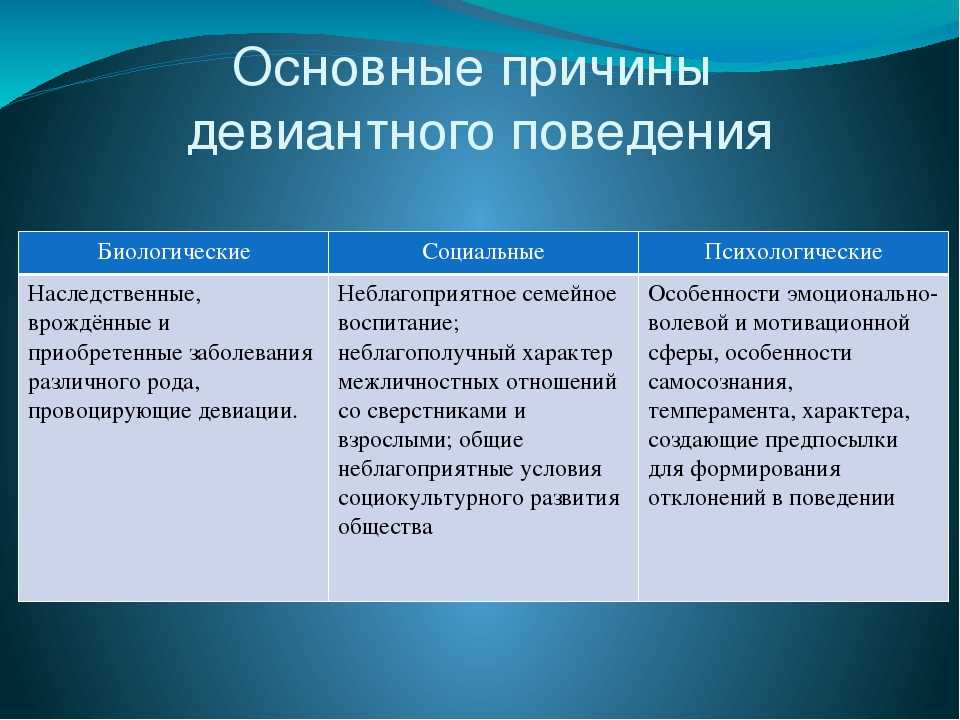 ‘}}
‘}}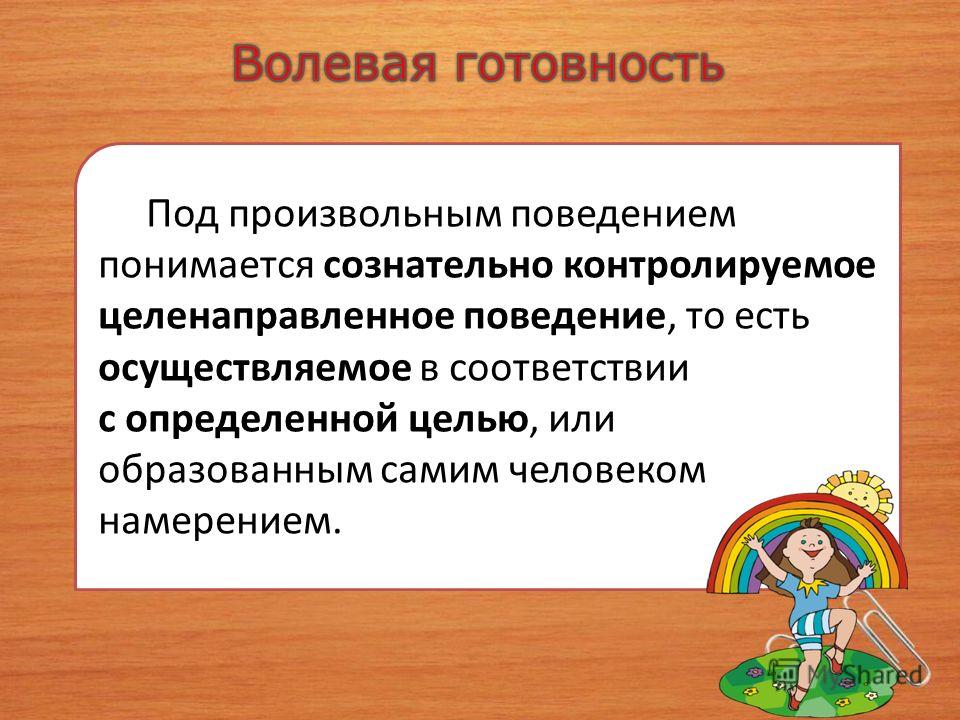 Личность еретика
Личность еретика 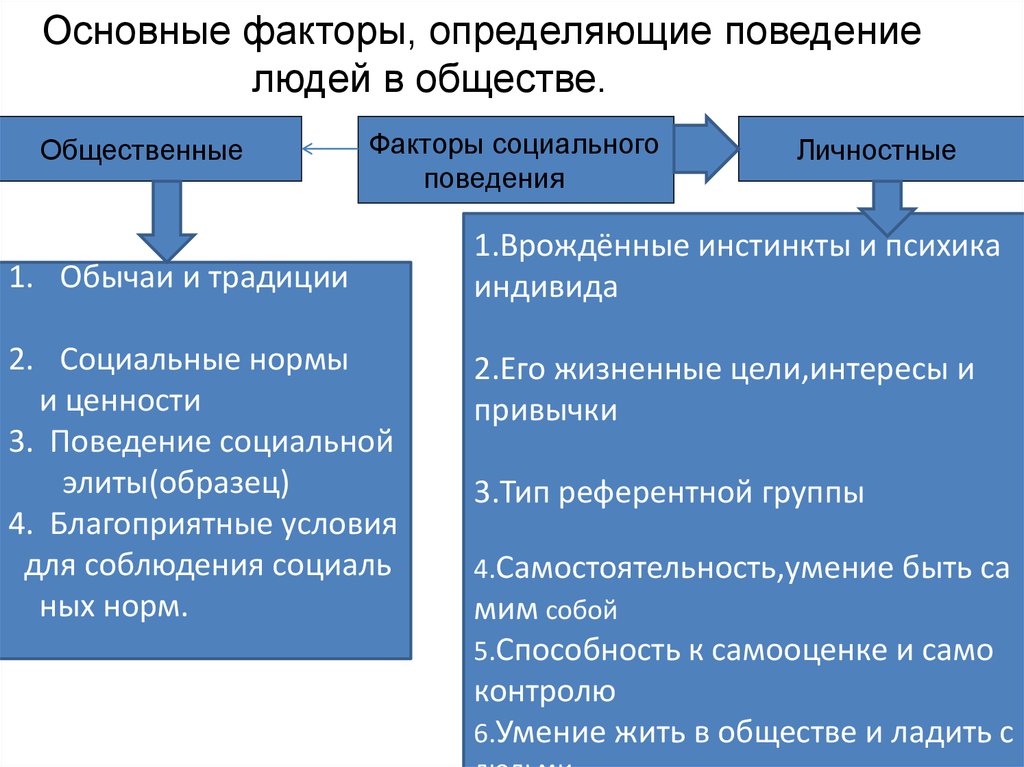 =148
, pass=В 1589 году суд дошел до примирения между Мишелем ле Петевеном и его женой после того, как она предъявила ему иск за жестокое обращение и прелюбодеяние с их горничной.}}
=148
, pass=В 1589 году суд дошел до примирения между Мишелем ле Петевеном и его женой после того, как она предъявила ему иск за жестокое обращение и прелюбодеяние с их горничной.}}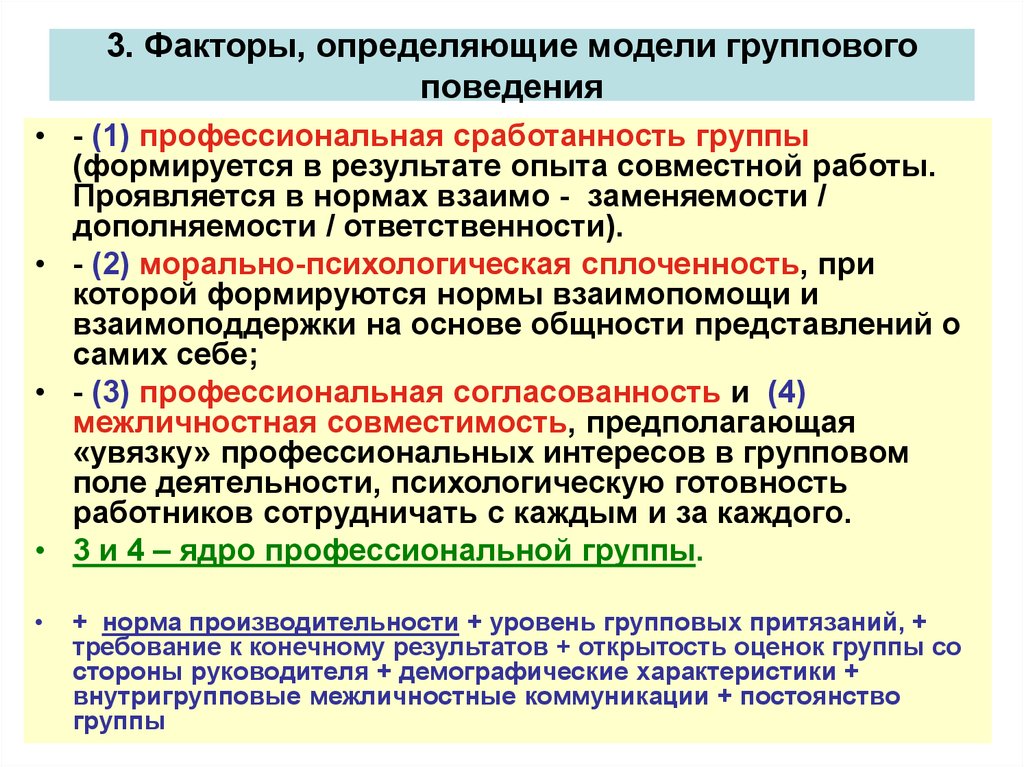 Политика.
Политика.