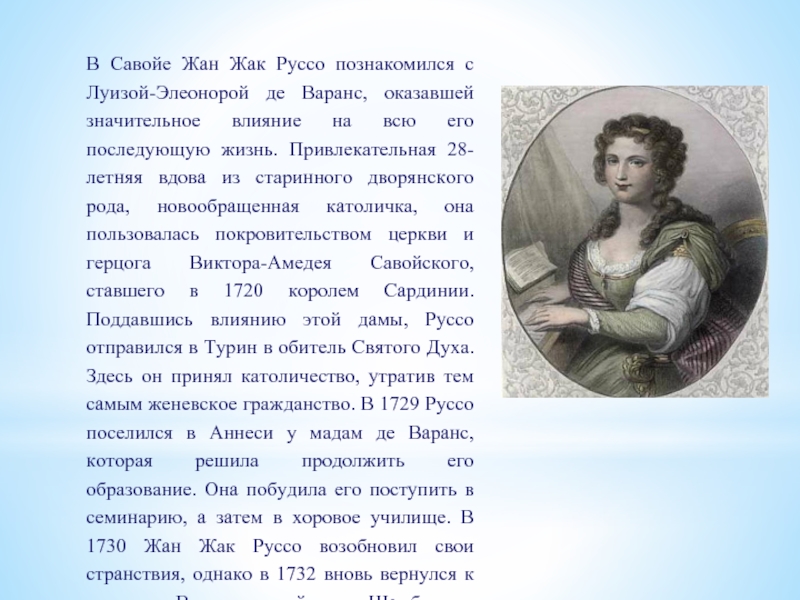Свободный философ Пятигорский
Это будет текст, где я не буду соглашаться со многими мнениями, высказанным в приложенном аудиофайле. Не в смысле «Баба-Яга против!»; тут действительно довольно серьезные расхождения. И обусловлены они контекстом, точнее – тремя разными историческими контекстами: Жана-Жака Руссо (вторая половина XVIII века), Александра Моисеевича Пятигорского, выступающего на эмигрантском радио (эфир 21.01.1977), и автора этого скромного комментария, в данный момент сидящего перед экраном лэптопа (конец августа 2013-го). Главный контекст тут Пятигорского, образца 1977 года – именно он по радио рассказывает советскому интеллигенту о Руссо, именно его рассказ я пытаюсь комментировать. Так что начнем с него.
Об этом контексте я уже писал несколько раз. На дворе вторая половина брежневского правления, этого советского викторианства; по телевизору уже вовсю идут советские сериалы, про БАМ стали подзабывать, в «Правде» можно прочесть слово «разрядка».
Но стоит нам выйти за пределы этого времени, возникает множество несообразностей, которые, в свою очередь, обусловлены контекстами тех времен, куда мы вышли. Вот, к примеру, вроде бы мелочь.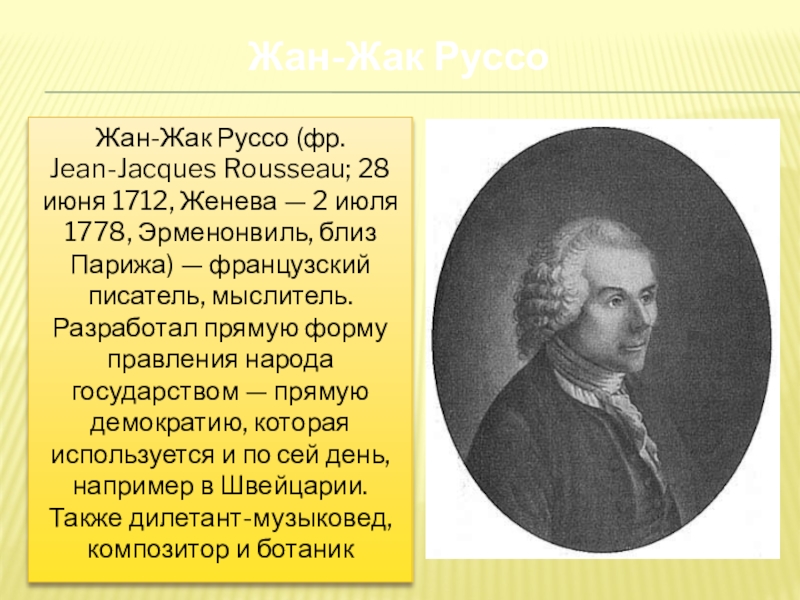
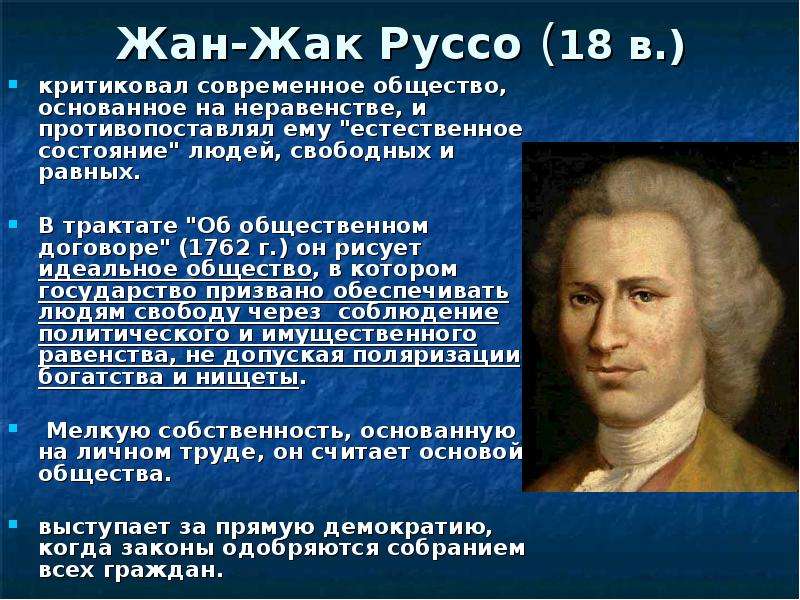
Писания Руссо, безусловно, страдали от «дурного вкуса» в восприятии просвещенного читателя XVIII века. Он не держал дистанцию между текстом и собственной жизнью. Более того, он стремился эту дистанцию отменить. Cреди политических последствий философии руссоизма Пятигорский называет отказ от принципа разделения властей, идею ставшую известной в Европе благодаря Монтескье (хотя этот принцип был предложен еще английскими авторами XVII века, в частности, Джоном Локком).
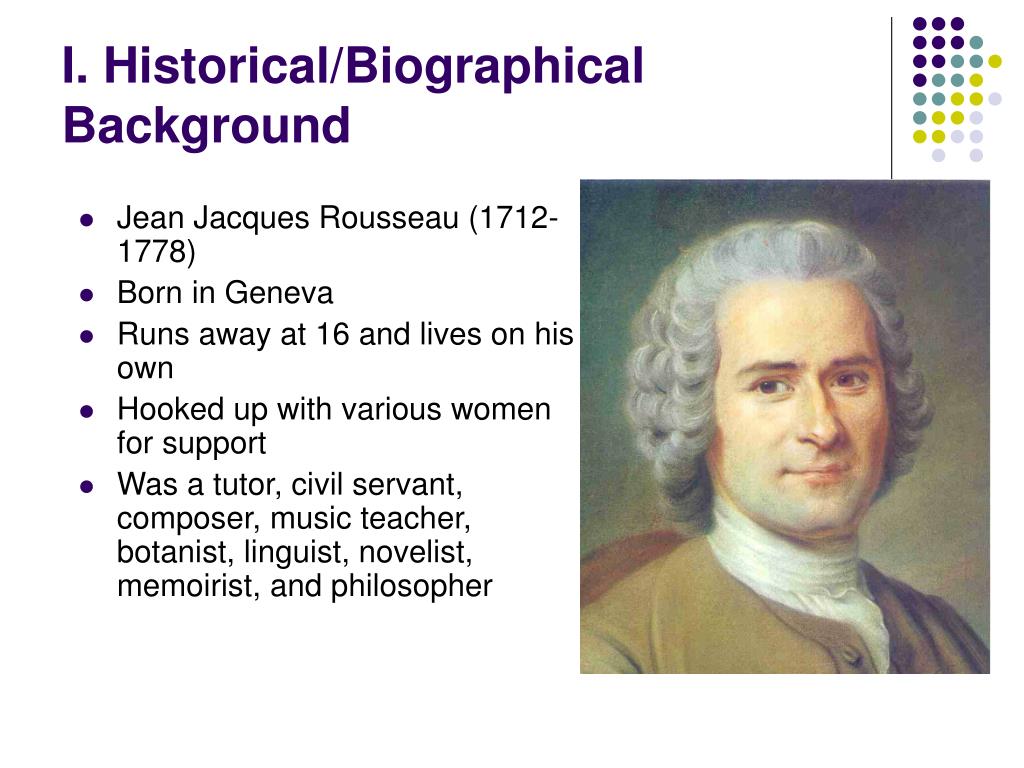
Говоря о разных контекстах, не стоит забывать и локальные. Руссо происходил из страны, состоявшей из небольших кантонов, где было самоуправление. Идея прямого народовластия, вытекающая, казалось бы, из самих оснований руссоистской философии, не смотрится столь экзотичной, когда мы применяем ее к подобным обстоятельствам; говоря попросту, она вполне разумна в условиях небольших территорий или городов, все население которых может собраться на большой площади. Для таких мест не нужны промежуточные механизмы между волей общества и высшей властью. Лет за сорок до Руссо шотландский просветитель Фрэнсис Хатчесон тоже писал о некоем «общественном договоре» (не употребляя, правда, этих слов) как акте добровольной передачи части свободы отдельными людьми в пользу общества (и – в конце концов – государства) для создания условий для общежития («общежития» не в бытовом советском смысле этого слова, а в русском значении XIX века, П.А.Вяземский написал бы даже «общежитства»; никаких грозных вахтеров и студенческих пьянок!).
 Из одной отправной точки шотландец и швейцарец пришли в разные пункты, первый стал одним из отцов либерализма, другой – в каком-то смысле – тоталитаризма. Но важно то, что исходный пункт обоих находился в одной небольшой самоуправляющейся общине в провинциальной стране. Иные системы мысли и идеи общественного устройства, предложенные другими героями Века Просвещения были гораздо «столичнее», сложнее и лукавее; парижанин Вольтер, аристократ Монтескье, ученик иезуитов Дидро простоте предпочитали сложность, а неформальной вере в доброту естественного человека – сложные просвещенческие процедуры, призванные обезопасить эту так называемую «доброту», ввести ее в максимально формальные рамки. Здание их философии поддерживалось заложенным в конструкцию четким балансом, а не верой в хорошее поведение строителей.
Из одной отправной точки шотландец и швейцарец пришли в разные пункты, первый стал одним из отцов либерализма, другой – в каком-то смысле – тоталитаризма. Но важно то, что исходный пункт обоих находился в одной небольшой самоуправляющейся общине в провинциальной стране. Иные системы мысли и идеи общественного устройства, предложенные другими героями Века Просвещения были гораздо «столичнее», сложнее и лукавее; парижанин Вольтер, аристократ Монтескье, ученик иезуитов Дидро простоте предпочитали сложность, а неформальной вере в доброту естественного человека – сложные просвещенческие процедуры, призванные обезопасить эту так называемую «доброту», ввести ее в максимально формальные рамки. Здание их философии поддерживалось заложенным в конструкцию четким балансом, а не верой в хорошее поведение строителей.Заключительная из двух бесед Александра Моисеевича Пятигорского (по-прежнему, под псевдонимом «Андрей Моисеев») о Жане-Жаке Руссо (мини-цикл назывался «Европейская философия») прозвучала в эфире Радио Свобода 21 января 1977 года.
Embed share
Александр Пятигорский. Нравственная и политическая философия Жан-Жака Руссо
by Радио Свобода
No media source currently available
0:00 0:12:20 0:00
Проект «Свободный философ Пятигорский» готовится совместно с Фондом Александра Пятигорского. Благодарим руководство Фонда и лично Людмилу Пятигорскую за сотрудничество. Напоминаю, этот проект был бы невозможен без архивиста «Свободы» Ольги Широковой, являющейся соавтором всего начинания.
Все выпуски доступны здесь
Биография философа Жан-Жака Руссо — Научно-популярный журнал: «Философия и жизнь»
Автор Кантов В.П. На чтение 5 мин Опубликовано Обновлено
Великий философ Жан-Жак Руссо родился в так называемой Романдии, говоря по-простому – Французской Швейцарии, в Женеве.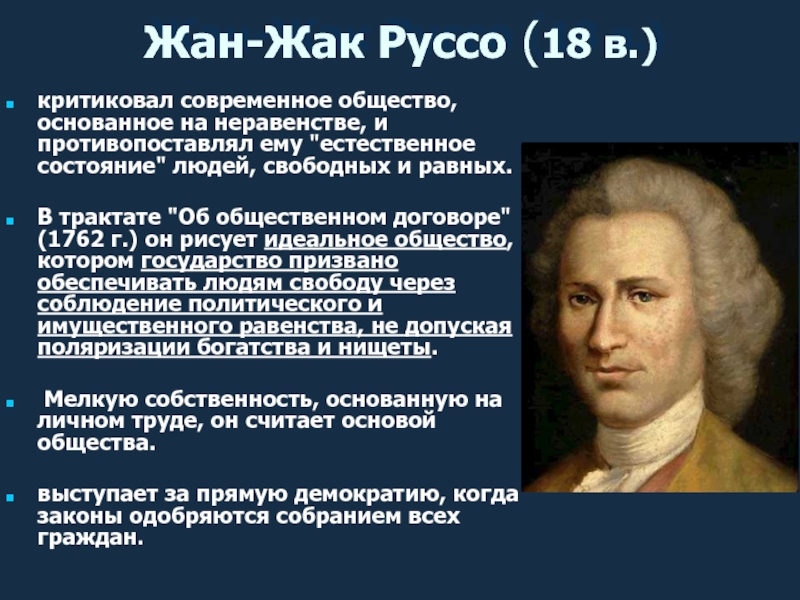
Часовщик и учитель танцев, образованный человек, он передал свои знания Жан-Жаку, и уже к семи годам тот был гораздо умнее своих сверстников, зачитывался серьезной французской и античной литературой. Но однажды отец Жан-Жака напал на другого человека, и из-за этого ему пришлось бежать в другой город, оставив сына на попечение родственников. Те отдали Жан-Жака в протестантский пансион Ламберсье. В юности в Жан-Жаке впервые пробудился бунтарский дух. Во время работы он постоянно читал, за что его все время наказывали, и ему пришлось научиться быть скрытным и врать не краснея. Когда он уходил в город, то часто возвращался позже положенного.
В 16 лет Жан-Жак покинул Женеву. В соседней деревне он встретил католического священника, который помог ему начать новую жизнь. Священник отправил Жан-Жака к госпоже де Варан, которая когда-то разорилась, но за принятие католичества получала пособие от самого короля. Она направила Жан-Жака в туринский монастырь, где за несколько месяцев Жан-Жак обратился в католическую веру.
Священник отправил Жан-Жака к госпоже де Варан, которая когда-то разорилась, но за принятие католичества получала пособие от самого короля. Она направила Жан-Жака в туринский монастырь, где за несколько месяцев Жан-Жак обратился в католическую веру.
После этого Жан-Жак стал слугой туринских аристократов. Там его обучили итальянскому языку. Но Жан-Жак не пробыл там долго и вернулся в Анси, к госпоже де Варан. Она научила его светским манерам, грамотной речи и письменности, отдала сначала в семинарию, а потом на учебу у органиста. Впрочем, и у него Руссо пробыл недолго и снова отправился в Анси. Но ко времени его приезда госпожа де Варан уже уехала во Францию.
Два года Жан-Жак был бродягой, скитался по миру. Но однажды он оказался в Париже и снова встретился с госпожой де Варан. Место Руссо уже было занято неким швейцарцем, но это его не смутило, и он снова поселился со своей возлюбленной. Швейцарец вскоре погиб, но де Варан нашла ему замену, и ею снова был не Руссо. Это начинало давить на Жан-Жака, он почувствовал себя третьим лишним, замкнулся в себе, начал пить. Большую часть времени он проводил наедине с природой.
Большую часть времени он проводил наедине с природой.
Руссо уехал в Лион, чтобы работать учителем на дому, но он совсем не умел общаться с людьми. Поэтому ему пришлось бросить работу и вернуться в Париж. Там Жан-Жак представил академикам систему записи нот с помощью цифр, но ее отказались принять.
Руссо остался без единого гроша в кармане. В тот жизненный период он начал отношения со служанкой гостиницы, где Жан-Жак надолго остановился. Он женился на ней спустя двадцать лет после их встречи, хотя никогда не любил ее. Наконец Руссо стал секретарем у откупщика, а также влился в кружок аристократии. Его члены терпели странности и грубость Жан-Жака, потому что он показался им очень интересным человеком. Новые знакомства сделали Руссо настоящей знаменитостью: знать осыпала его подарками, приглашала на личные встречи, спрашивала совета. Жан-Жаку это не нравилось, он не любил так много разговаривать с незнакомыми людьми.
Жан-Жак смог опубликовать свой первый философский труд. В нем он осудил и обличил современное ему общество, культуру и цивилизацию в целом. Он верил, что наука и искусство развращают общество, убивают в нем вечные ценности, заложенные в человека при рождении. В его взглядах отразился его жизненный путь – Руссо никогда не ладил с людьми и утешение находил только в природе. Власть не приветствовала мнение Руссо, зато интеллигенции его труды пришлись по душе.
В нем он осудил и обличил современное ему общество, культуру и цивилизацию в целом. Он верил, что наука и искусство развращают общество, убивают в нем вечные ценности, заложенные в человека при рождении. В его взглядах отразился его жизненный путь – Руссо никогда не ладил с людьми и утешение находил только в природе. Власть не приветствовала мнение Руссо, зато интеллигенции его труды пришлись по душе.
Вскоре Руссо поссорился с кружком, который подарил ему известность. Один из его членов нанес Жан-Жаку оскорбление, из-за которого философ решил, что его намеренно решили опозорить. Новым его другом и покровителем стал герцог Люксембургский, а новым домом – замок Монморанси. Там Жан-Жак начал писать романы: вышла сначала «Новая Элоиза», а потом – «Эмиль». Руссо боялся, что ему, как автору этих книг, грозит наказание, если преследуемые в то время иезуиты исказят смысл текста. Опасения сбылись, когда в Париже при осуждении иезуитов осудили и философов. «Эмиля» сожгли, а Руссо, его автора, велели заключить в темницу.
Буквально чудом Руссо смог в страхе скрыться из замка Монморанси. Он долго не мог найти себе убежище; нападки на его творчество шли со всех сторон, в стороне не осталась даже Женева. Новым пристанищем для Жан-Жака стало княжество Невшательское. Там его психическое состояние начало стремительно ухудшаться. Спустя три года Жан-Жак сильно поссорился с Вольтером. Взаимные обвинения зашли настолько далеко, что против Руссо взбунтовались односельчане. Ему пришлось бежать сначала в Швейцарию, а потом – в Англию, куда его пригласил Дэвид Юм. Но паранойя, давно охватившая разум Жан-Жака, обратилась и против гостеприимного Юма. Тогда Руссо снова отправился в бесцельные скитания.
Спустя долгие четыре года Жан-Жак снова оказался в Париже. Он много где искал дом, но везде ему мерещились враги. Не помогла ему прийти в себя и публикация памфлета, в котором толпе рассказали обо всех деталях его прошлого. Чтобы оправдаться в глазах народа, Руссо написал роман «Исповедь».
За несколько лет до своей смерти Руссо вступил в масонскую ложу. Летом 1777 г. Руссо начал угасать на глазах, его здоровье становилось все хуже и хуже, и спустя год Жан-Жак умер. По его просьбе он был похоронен на острове «Ив».
Летом 1777 г. Руссо начал угасать на глазах, его здоровье становилось все хуже и хуже, и спустя год Жан-Жак умер. По его просьбе он был похоронен на острове «Ив».
Жан-Жак Руссо и Адам Смит: философская встреча | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews
Это сложная, сложная книга. Те, кто знаком с более ранними работами Гризуолда, например, с его « Адам Смит и добродетели просвещения » (1999) или с его «Прощение : философское исследование » (2007), должны были ожидать сочетания внимательного прочтения первоисточника. тексты, обширное знакомство со вторичной литературой и тонкие и тщательные рассуждения, которые демонстрируются в этой книге. Однако он не подходит для широкой аудитории или для читателей, ищущих обзоры или резюме Руссо или Смита: он требует сосредоточенного внимания, и без широкого знакомства с работами Руссо и Смита большую часть его обсуждения может быть трудно отслеживать и оценивать. Однако для читателей с необходимым опытом и временем, чтобы посвятить этому, книга Гризуолда вознаграждает тщательное исследование. Как и в других его работах, его толкование и аргументация тонкие, подробные и тщательные; и, опять же, как и другая работа Гризуолда, она сразу же станет справочником, который сформирует будущую науку.
Как и в других его работах, его толкование и аргументация тонкие, подробные и тщательные; и, опять же, как и другая работа Гризуолда, она сразу же станет справочником, который сформирует будущую науку.
Вступительное обсуждение книги задает основу для большей части того, что последует. Грисволд обращает наше внимание на тот факт, что Руссо приложил Предисловие к своей пьесе Нарцисс. Этот факт поначалу может показаться непримечательным, пока не прочитаешь предисловие , , в котором, как показывает Гризуолд, защищается «критика искусств, литературы, науки и философии» (3), представленная Руссо в его Первом дискурсе. . Другими словами, Руссо в своих Preface, , а затем публикует его вместе с Narcissus , в котором он занимается и вносит свой вклад в искусство и литературу. Как примирить это кажущееся противоречие между словами Руссо ( Предисловие ) и его делами (написание и издание Нарцисса )? После тщательного обсуждения Гризуолд приходит к выводу, что Руссо действительно «виновен по обвинению» в несоответствии между его словами и делами (17). Но это еще не конец истории, потому что, как утверждает Грисволд, для Руссо нет способа вырваться из «системы фальсификации, рационализации и амбициозной деятельности», которой требует современное общество (17). Таким образом, в противопоставлении Руссо своих Предисловие с его Нарциссом: подобно Сократу, утверждающему, что осознание того, что он ничего не знает, само по себе является основой его мудрости, осознание Руссо того, что мы все играем роли, и что эти роли отчасти являются одновременно самоконструктированными и самообманчивыми , является началом своего рода самопознания, даже если «мы не умеем жить без наших вымыслов» (18).
Но это еще не конец истории, потому что, как утверждает Грисволд, для Руссо нет способа вырваться из «системы фальсификации, рационализации и амбициозной деятельности», которой требует современное общество (17). Таким образом, в противопоставлении Руссо своих Предисловие с его Нарциссом: подобно Сократу, утверждающему, что осознание того, что он ничего не знает, само по себе является основой его мудрости, осознание Руссо того, что мы все играем роли, и что эти роли отчасти являются одновременно самоконструктированными и самообманчивыми , является началом своего рода самопознания, даже если «мы не умеем жить без наших вымыслов» (18).
Более крупный вопрос, которым занимается исследование Грисволда, — это степень, в которой современное коммерческое общество усугубляет взаимный самообман, которым мы занимаемся. Может ли коммерческое общество предложить какую-либо искупительную добродетель через многочисленные слои обмана и самообмана, которые оно поощряет? Один из способов подойти к этому вопросу — рассмотреть утверждение Адама Смита в его Богатство народов, , что «Не от благосклонности мясника, пивовара или пекаря мы ожидаем наш обед, а от их заботы о своих собственных интересах. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их себялюбие и никогда не говорим с ними о наших собственных нуждах, но об их преимуществах» ( Wealth of Nations I.ii.2). Каким бы простым этот отрывок ни казался на первый взгляд, на самом деле он вызывает множество вопросов. Во-первых, делает ли здесь Смит описательное или нормативное утверждение; описывает ли он то, как люди на самом деле действуют на рынках, или рекомендует нам вести себя таким образом? Если первое, то утверждение кажется ложным: мы часто учитываем доброжелательные мотивы и действия, когда взаимодействуем на рынках, особенно на местных рынках провинциального городка, подобных тому, что, по-видимому, описывает Смит, где мы часто знаем своего мясника, пивовара или пекаря. лично. Если второе, то Смит должен нам аргументировать, почему мы должны отбрасывать то, что кажется нам естественным, когда мы выходим на рынок.
Мы обращаемся не к их гуманности, а к их себялюбие и никогда не говорим с ними о наших собственных нуждах, но об их преимуществах» ( Wealth of Nations I.ii.2). Каким бы простым этот отрывок ни казался на первый взгляд, на самом деле он вызывает множество вопросов. Во-первых, делает ли здесь Смит описательное или нормативное утверждение; описывает ли он то, как люди на самом деле действуют на рынках, или рекомендует нам вести себя таким образом? Если первое, то утверждение кажется ложным: мы часто учитываем доброжелательные мотивы и действия, когда взаимодействуем на рынках, особенно на местных рынках провинциального городка, подобных тому, что, по-видимому, описывает Смит, где мы часто знаем своего мясника, пивовара или пекаря. лично. Если второе, то Смит должен нам аргументировать, почему мы должны отбрасывать то, что кажется нам естественным, когда мы выходим на рынок.
Помимо этого вопроса, однако, есть еще один, который больше беспокоит Гризуолда: в какой степени наши взаимодействия и обмены на рынке между фактически сконструированными и спроецированными искусственными «я» в отличие от выражений подлинных «я»? Если я апеллирую к вашему интересу, действительно ли я забочусь о вашем интересе, или это просто позерство? Если у вас такая же поза, то, конечно, вы знаете, что я тоже притворяюсь, как я знаю и вас. Так как же наше взаимодействие может быть хоть сколько-нибудь похоже на вступление в подлинное сообщество друг с другом, когда каждый из нас не только притворяется, но знает, что другой притворяется, и тем не менее мы действуем так, как будто мы не притворяемся и как будто мы не знаем, что каждый из нас?
Так как же наше взаимодействие может быть хоть сколько-нибудь похоже на вступление в подлинное сообщество друг с другом, когда каждый из нас не только притворяется, но знает, что другой притворяется, и тем не менее мы действуем так, как будто мы не притворяемся и как будто мы не знаем, что каждый из нас?
Размышление над подобным примером дает некоторое представление о философских и экзегетических сложностях, связанных с общением таких фигур, как Руссо и Смит, друг с другом. Но Грисволд явно справится с задачей. Хотя он признает, что он «философ, а не историк (включая историка идей)» (xx), и намекает, что существует слишком много второстепенных исследований Руссо и Смита, чтобы он мог полностью их освоить (xix), тем не менее он необычайно владеет как первичной, так и соответствующей вторичной литературой, превосходя большинство ученых, изучающих эти фигуры. Этот факт иногда делает проработку его рассуждений, в том числе его объемистых сносок, тяжелым утомлением, но он также дает читателю уверенность в том, что если есть текст, отрывок или ссылка, которая имеет отношение к делу, Гризуолд нашел ее.
Слишком много глубоких дискуссий, чтобы охватить их в обзоре, но одно обсуждение даст некоторое представление о других частях его содержания. Адам Смит, как известно, определил персонажа, которого он назвал «беспристрастным зрителем», как эталон нравственного поведения. На практике беспристрастный наблюдатель служит эвристическим приемом: если вы задаетесь вопросом, является ли то, что вы намереваетесь сделать, моральным или нет, спросите себя, что подумал бы незаинтересованный, но полностью информированный наблюдатель вашего поведения. Одобрит ли такой человек? Смит, по-видимому, считает, что, задав себе этот вопрос, можно дать надежный совет, но возникают вопросы относительно происхождения этой точки зрения. Смит утверждает, что эта точка зрения возникает в результате процесса индукции, в котором люди участвуют в своем опыте наблюдения за тем, как другие судят о поведении, чувствах и суждениях других и о своем собственном поведении. Тысячи таких переживаний привели к выработке суждения о том, что является приемлемым или неприемлемым в человеческом поведении, и это суждение возникает, когда мы спрашиваем себя, одобрит ли это беспристрастный наблюдатель. Тем не менее, если это является источником этой точки зрения, она, по-видимому, обязательно связана с конкретным опытом, который имел каждый человек. В таком случае, что помешало бы ему быть ограниченным и подверженным предубеждениям, предрассудкам и шовинизму, свойственным местному сообществу или чьему-то особому опыту? Почему мы должны рассматривать точку зрения беспристрастного наблюдателя как нечто большее, чем слияние локальных трайбализмов, и рекомендацию следовать ей, следовательно, немногим больше, чем рекомендацию следовать локально обусловленным стратегиям, чтобы жить в своем сообществе, а не какой-либо объективный моральный кодекс? ?
Тем не менее, если это является источником этой точки зрения, она, по-видимому, обязательно связана с конкретным опытом, который имел каждый человек. В таком случае, что помешало бы ему быть ограниченным и подверженным предубеждениям, предрассудкам и шовинизму, свойственным местному сообществу или чьему-то особому опыту? Почему мы должны рассматривать точку зрения беспристрастного наблюдателя как нечто большее, чем слияние локальных трайбализмов, и рекомендацию следовать ей, следовательно, немногим больше, чем рекомендацию следовать локально обусловленным стратегиям, чтобы жить в своем сообществе, а не какой-либо объективный моральный кодекс? ?
Процесс выяснения того, что беспристрастный зритель подумает о чьем-то поведении, обязательно включает в себя процесс воображаемой проекции. Как говорит Смит:
Когда я пытаюсь исследовать свое собственное поведение, когда я пытаюсь вынести ему приговор и либо одобрить, либо осудить его, становится очевидным, что во всех подобных случаях я разделяю себя как бы на два человека; и что я, экзаменатор и судья, представляю собой персонаж, отличный от того другого я, человека, чье поведение исследуется и оценивается.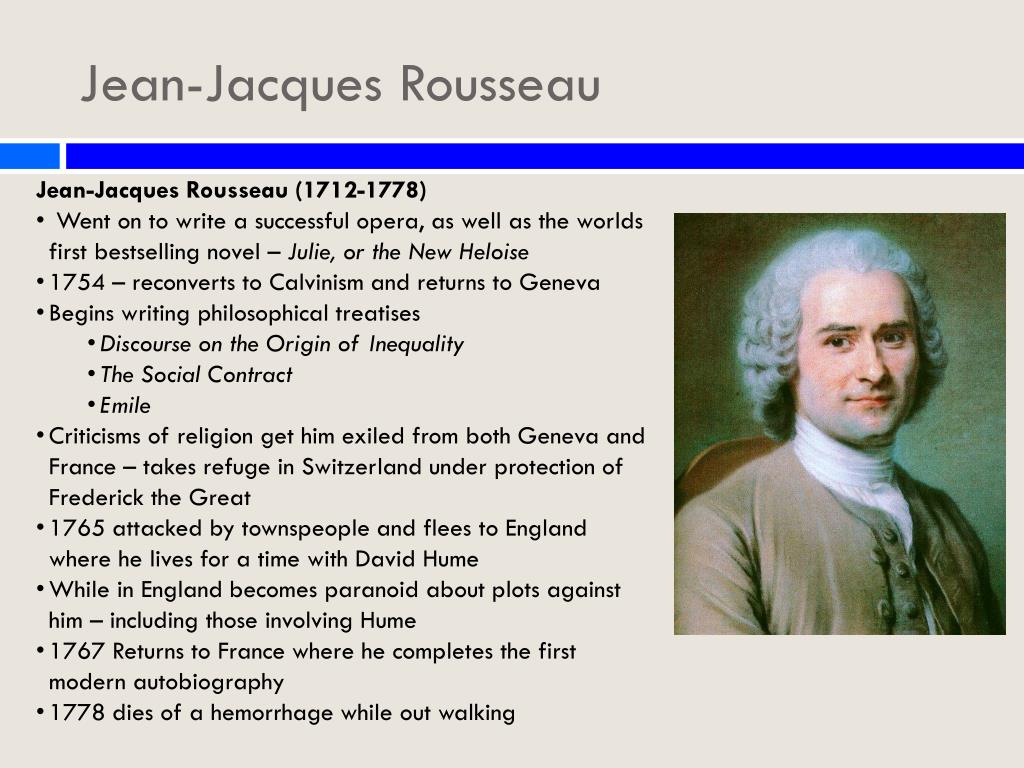 ( Теория нравственных чувств III.1.6)
( Теория нравственных чувств III.1.6)
Как указывает Грисволд, это прямо возвращает нас к проблематике Руссо: две личности, на которые я делю себя, существуют только в воображении, подвержены самообману и нехватке самосознания. знание, как утверждает Руссо, есть у каждого из нас; и, конечно же, именно я все еще занимаюсь «разделением», «воображением» и суждением. Смит, похоже, считает, что обращение к точке зрения беспристрастного наблюдателя может дать нам некоторую критическую дистанцию от самих себя, некоторую внешнюю точку зрения и контекст, из которого можно судить о себе, что может придать нашему суждению объективность. Но Руссо задается вопросом не только о том, может ли быть объективной точка зрения воображаемого беспристрастного зрителя, но и о том, возможна ли вообще такая критическая дистанция. Если мы настолько непрозрачны для самих себя, насколько мы можем доверять воображаемой перспективе, которая на один шаг дальше от нас? Обобщая позицию Руссо, Грисволд пишет, что
эмпирические данные, а также интуиция, к которым мы обычно обращаемся при изложении нашего взгляда на человеческую природу, уже исторически и концептуально опосредованы.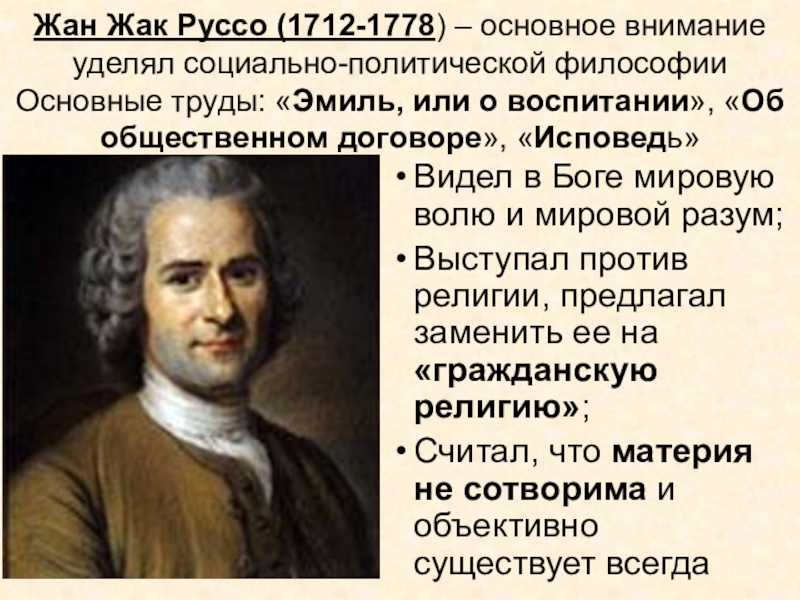 Стремление познать себя усиливает эти унаследованные и сформированные культурой предубеждения именно тем, что делает вид, что они представляют собой объективные, беспристрастно известные факты или тезисы. (51)
Стремление познать себя усиливает эти унаследованные и сформированные культурой предубеждения именно тем, что делает вид, что они представляют собой объективные, беспристрастно известные факты или тезисы. (51)
Это, однако, не обеспечит объективности, а лишь усугубит непрозрачность, самоневедение и взаимный обман.
Как утверждает Грисволд, одной из центральных, объединяющих тем большей части работ Руссо является исследование — или, возможно, перформативная иллюстрация — «темы самопознания и повсеместного отсутствия ясности в отношении самого себя» (59).). Мы представляем себя едиными личностями с достаточно устойчивыми характерами и личностями; однако на самом деле мы вообще мало представляем себе самих себя, и, следовательно, наши выражения поведения, чувств и суждений являются позами, которые мы принимаем. Возможно, удивительным образом это одновременно и подтверждение, и осуждение точки зрения Смита. Мы принимаем позы, которые позволяют нам двигаться и даже преуспевать в социальных обстоятельствах, в которых мы находимся, и мы создаем искусственный стандарт морали — «беспристрастный наблюдатель», — который мы преподносим другим как и даже убедить себя в том, что мы объективны.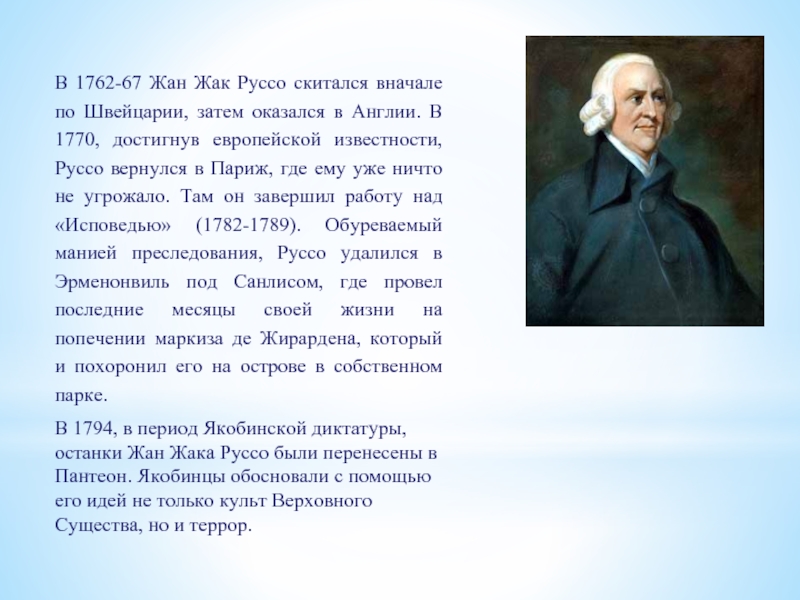 Но на самом деле это всего лишь результат нашего поиска уловок, позволяющих нам чувствовать себя лучше и заставлять других одобрять наше поведение (144). Следовательно, утверждение Смита о том, что все люди желают «взаимной симпатии чувств», становится не той положительной социальной силой, которую воображает Смит, а вместо этого взаимно развращающим средством обеспечения похвалы и лести, что само по себе составляет еще одно препятствие на пути к самопознанию (148). Таким образом, когда Смит утверждает, что мы по своей природе желаем не только похвалы, но и того, чтобы быть достойными похвалы, — «Человек по своей природе желает не только быть любимым, но и быть прекрасным, или быть тем, что является естественным и надлежащим объектом любви». TMS III.ii.1) — руссоианец понимает это не только как ложное предлог, но, когда оно развернуто (как это неизбежно будет), как апостериорную рационализацию своего поведения, упражнение в самолести. Загружать.
Но на самом деле это всего лишь результат нашего поиска уловок, позволяющих нам чувствовать себя лучше и заставлять других одобрять наше поведение (144). Следовательно, утверждение Смита о том, что все люди желают «взаимной симпатии чувств», становится не той положительной социальной силой, которую воображает Смит, а вместо этого взаимно развращающим средством обеспечения похвалы и лести, что само по себе составляет еще одно препятствие на пути к самопознанию (148). Таким образом, когда Смит утверждает, что мы по своей природе желаем не только похвалы, но и того, чтобы быть достойными похвалы, — «Человек по своей природе желает не только быть любимым, но и быть прекрасным, или быть тем, что является естественным и надлежащим объектом любви». TMS III.ii.1) — руссоианец понимает это не только как ложное предлог, но, когда оно развернуто (как это неизбежно будет), как апостериорную рационализацию своего поведения, упражнение в самолести. Загружать.
Одна общая черта между Смитом и Руссо, которую подробно обсуждает Грисволд, — это их общая методология обращения к прошлому — к «генеалогическим нарративам» — чтобы понять, почему люди ведут себя и почему они судят так, как они поступают. Оба они верят, что наши нынешние «я», включая наши нравственные чувства, возникают в результате сложного взаимодействия между нами и другими в нашем опыте, между нами и нашей культурой и, к сожалению, навсегда для нас непрозрачным образом, между нами и нашим миром. различные «я», которые мы проецируем на разных людей в разных ситуациях. Как справедливо отмечает Грисволд, «взгляды Смита не столь пессимистичны, как» взгляды Руссо (9).2), и Грисволд приводит некоторые основания в поддержку более оптимистичного заявления Смита о том, что, несмотря на трудности, связанные с созданием истинного сообщества с другими, Смит, тем не менее, «утверждает, что мы делаем переживаем «что чувствуют другие люди», что мы регулярно учитывать или разделять, видеть или чувствовать их чувства и мотивы, и что, когда мы неспособны (например, если другой человек мертв), мы все еще можем представить, что этот человек чувствовал бы» (119). Согласно Грисволду, утверждение Руссо о том, что «общительность — это искусственный » (107) не доказывает, что «как только мы поймем ситуацию [других], мы не сможем проникнуть в их чувства» (120).
Оба они верят, что наши нынешние «я», включая наши нравственные чувства, возникают в результате сложного взаимодействия между нами и другими в нашем опыте, между нами и нашей культурой и, к сожалению, навсегда для нас непрозрачным образом, между нами и нашим миром. различные «я», которые мы проецируем на разных людей в разных ситуациях. Как справедливо отмечает Грисволд, «взгляды Смита не столь пессимистичны, как» взгляды Руссо (9).2), и Грисволд приводит некоторые основания в поддержку более оптимистичного заявления Смита о том, что, несмотря на трудности, связанные с созданием истинного сообщества с другими, Смит, тем не менее, «утверждает, что мы делаем переживаем «что чувствуют другие люди», что мы регулярно учитывать или разделять, видеть или чувствовать их чувства и мотивы, и что, когда мы неспособны (например, если другой человек мертв), мы все еще можем представить, что этот человек чувствовал бы» (119). Согласно Грисволду, утверждение Руссо о том, что «общительность — это искусственный » (107) не доказывает, что «как только мы поймем ситуацию [других], мы не сможем проникнуть в их чувства» (120). Смит пишет: «Эти два чувства [актера и наблюдателя к поведение актера], однако, очевидно, могут иметь такое соответствие друг другу, какое достаточно для гармонии общества. Хотя они никогда не будут унисонами, они могут быть аккордами, и это все, что нужно или требуется» (TMS I.i.4.7). , наши социальные порядки могут быть полезными: «Картина Смита о склонности к воображению помогает подтвердить связь между общительностью на уровне земли и просоциальными чувствами и поведением» (126) 9.0007
Смит пишет: «Эти два чувства [актера и наблюдателя к поведение актера], однако, очевидно, могут иметь такое соответствие друг другу, какое достаточно для гармонии общества. Хотя они никогда не будут унисонами, они могут быть аккордами, и это все, что нужно или требуется» (TMS I.i.4.7). , наши социальные порядки могут быть полезными: «Картина Смита о склонности к воображению помогает подтвердить связь между общительностью на уровне земли и просоциальными чувствами и поведением» (126) 9.0007
Однако мне интересно, не может ли критика Руссо иметь больше силы, чем, по-видимому, допускает Грисволд. Обратите внимание, что Грисволд утверждает, что утверждения Руссо об искусственности общительности не мешают нам вникать в чувства других, «как только мы поймем ситуацию» этих других: но центральная часть аргументации Руссо ставит вопрос о том, можем ли мы на самом деле понять положение других. Аргумент Руссо не основывается на утверждении, что мы на самом деле не другие люди, что мы не занимаем их тела и не рассматриваем их как бы изнутри их (122).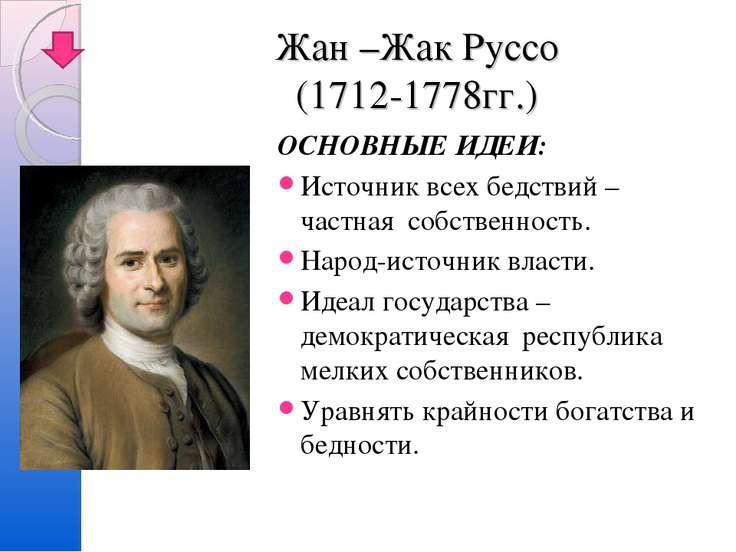 Скорее, он делает более глубокие заявления о том, что (а) в других нет единого, подлинного «я», которое можно было бы познать — есть только их многочисленные сконструированные и меняющиеся «я» — и (б) то же самое верно и для нас, что означает у нас нет стабильного, основного или подлинного «я», с которого мы могли бы смотреть на других. Следовательно, хотя и может быть правдой, что «человеческое «я» естественным образом тяготеет к нормам, с помощью которых оно может, принимая зрительскую точку зрения, ставшую возможной благодаря симпатическому воображению, измерять себя» (128), мало оснований доверять этим стандартам измерение или процесс, в результате которого они были получены. Грисволд утверждает: «Нартивное понимание ситуации человека не имеет смысла просто потому, что оно — это нарратив, сведите понимание к болтовне» (142). Достаточно справедливо, но, по-видимому, Руссо ответил бы, что это также не дает нам оснований полагать, что это не что иное, как болтовня. признает сам, то (вероятно, сделал бы вывод Руссо) этому нельзя доверять» (148).
Скорее, он делает более глубокие заявления о том, что (а) в других нет единого, подлинного «я», которое можно было бы познать — есть только их многочисленные сконструированные и меняющиеся «я» — и (б) то же самое верно и для нас, что означает у нас нет стабильного, основного или подлинного «я», с которого мы могли бы смотреть на других. Следовательно, хотя и может быть правдой, что «человеческое «я» естественным образом тяготеет к нормам, с помощью которых оно может, принимая зрительскую точку зрения, ставшую возможной благодаря симпатическому воображению, измерять себя» (128), мало оснований доверять этим стандартам измерение или процесс, в результате которого они были получены. Грисволд утверждает: «Нартивное понимание ситуации человека не имеет смысла просто потому, что оно — это нарратив, сведите понимание к болтовне» (142). Достаточно справедливо, но, по-видимому, Руссо ответил бы, что это также не дает нам оснований полагать, что это не что иное, как болтовня. признает сам, то (вероятно, сделал бы вывод Руссо) этому нельзя доверять» (148). Именно так, но не подрывает ли это аргумент Смита? теоретиком, но с точки зрения, явно укорененной в «общей жизни», и что он избежал трудностей, сопровождающих резко диадическое мировоззрение Руссо» (148). ‘» выдает игру.
Именно так, но не подрывает ли это аргумент Смита? теоретиком, но с точки зрения, явно укорененной в «общей жизни», и что он избежал трудностей, сопровождающих резко диадическое мировоззрение Руссо» (148). ‘» выдает игру.
Грисволд продолжает исследовать несколько других захватывающих последствий воображаемой философской «встречи» между Смитом и Руссо, включая их одобрение и критику, соответственно, коммерческого общества (глава 4), а также их разные взгляды на место и ценность « гражданская религия» в обществе (глава 5). Исследование Грисволда тщательно, проницательно и провокационно. К сожалению, я не могу отдать должное его трактовке в рецензии, но я надеюсь, что приведенное выше обсуждение других аспектов книги Грисволда проясняет, что исследователи Руссо, ученые Смита и все, кто интересуется тем, как эти два великих мыслителя исследовали «вопросы себя» (248) найдет его обсуждение чрезвычайно плодотворным.
Просветленные враги | Книги | The Guardian
Дэвид Хьюм дошел до нас как один из величайших философов.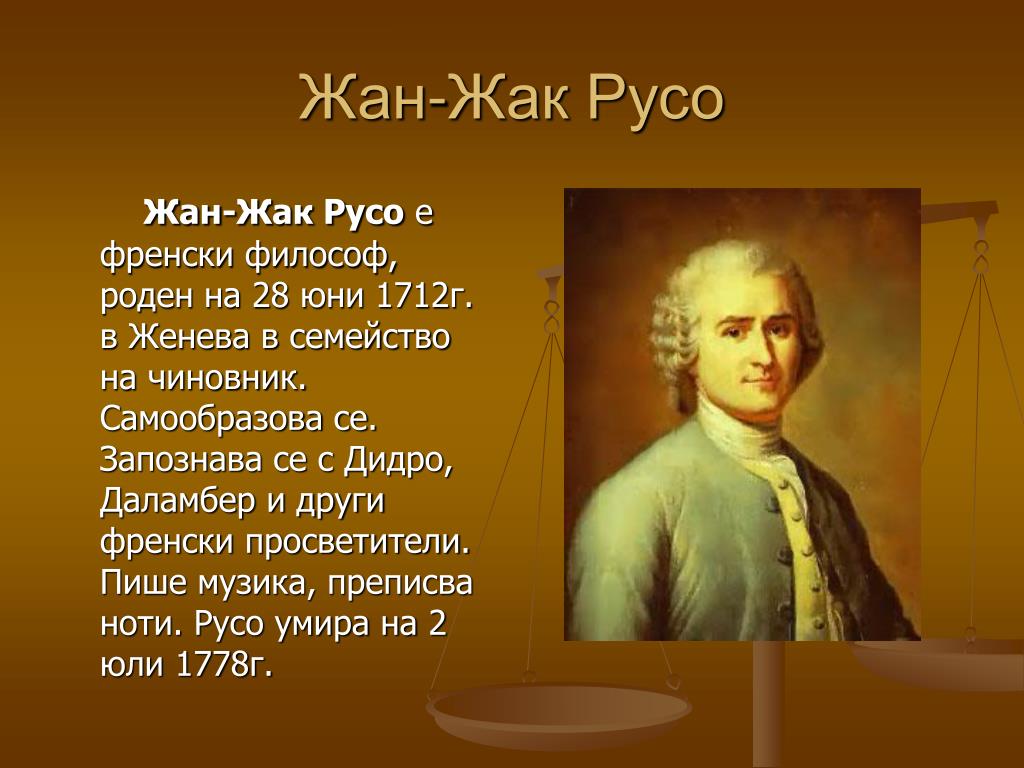 Он также является примером человека с безупречным характером, которого в его возрасте приветствовали за его незаурядную добродетель. Хьюм безмерно гордился своей честной репутацией; можно сказать, он упивался своей добротой. В 1776 году, находясь на грани смерти от рака кишечника, он подытожил свою жизнь в коротком, ничего не значащем эссе. Он был, писал он, «человеком мягкого нрава, сдержанным, открытым, общительным и веселым юмором, способным к привязанностям, но мало восприимчивым к враждебности и очень сдержанным во всех моих страстях».
Он также является примером человека с безупречным характером, которого в его возрасте приветствовали за его незаурядную добродетель. Хьюм безмерно гордился своей честной репутацией; можно сказать, он упивался своей добротой. В 1776 году, находясь на грани смерти от рака кишечника, он подытожил свою жизнь в коротком, ничего не значащем эссе. Он был, писал он, «человеком мягкого нрава, сдержанным, открытым, общительным и веселым юмором, способным к привязанностям, но мало восприимчивым к враждебности и очень сдержанным во всех моих страстях».
Его друг, экономист и моральный философ Адам Смит, согласился, превознося Юма после его смерти как образец «совершенно мудрого и добродетельного человека, насколько, возможно, позволяет природа человеческой слабости». Историки и биографы согласились с этим образом, игнорируя предостережение Смита … «настолько, насколько позволяет природа человеческой слабости» …
Эта человеческая слабость подверглась суровому испытанию 10 лет назад, когда Хьюм предложил помощь радикальному автору.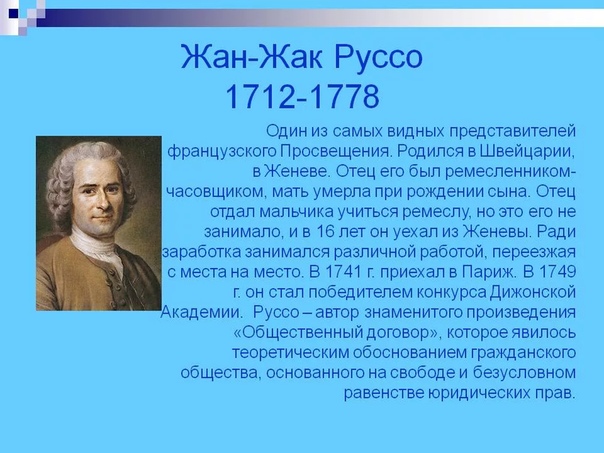 Жан-Жак Руссо.
Жан-Жак Руссо.
Шел 1766 год, и Руссо имел все основания опасаться за свою жизнь. Более трех лет он был беженцем, несколько раз вынужденным переезжать. Его радикальный трактат «Общественный договор» с его знаменитым вступительным словом «Человек рождается свободным, но везде он в цепях» был подвергнут резкому осуждению. Еще большую угрозу для французской католической церкви представлял Эмиль, в котором Руссо выступал за то, чтобы лишить духовенство роли в воспитании молодежи. В Париже был выдан ордер на арест, а его книги публично сожжены.
В «Исповедях», литературной вехе, описанной как первая современная автобиография, Руссо говорит о «вопле беспримерной ярости», прокатившемся по Европе. «Я был неверным, атеистом, сумасшедшим, сумасшедшим, диким зверем, волком…»
Бежав из Франции, он нашел убежище в глухой деревушке в родной Швейцарии. Но вскоре местный священник стал нагнетать к нему ненависть, обвиняя его в том, что он еретик. Атмосфера стала скверной. Руссо был оскорблен на улице. Некоторые считали, что этот худощавый смуглый мужчина с глазами, полными огня, был одержим дьяволом.
Некоторые считали, что этот худощавый смуглый мужчина с глазами, полными огня, был одержим дьяволом.
Однажды ночью пьяная толпа напала на его дом. Руссо был внутри со своей любовницей, бывшей посудомойкой Терезой ле Вассер (от которой у него было пятеро детей, которых он, как известно, бросил в приют для подкидышей) и своей любимой собакой Султаном. В окно посыпались камни. Камень «размером с голову» чуть не упал на кровать Руссо. Когда, наконец, прибыл местный чиновник, он заявил: «Боже мой, это каменоломня».
У Руссо не было другого выбора, кроме как снова вырваться с корнем. Так что дальше? Его спасителем станет шотландец Дэвид Хьюм.
В октябре 1763 года Хьюм отправился во французскую столицу в качестве заместителя секретаря только что назначенного британского посла лорда Хертфорда.
Сегодня Юм известен прежде всего своей философией, но тогда он был известен как историк. Его первый философский труд, «Трактат о человеческой природе», был если не полностью проигнорирован, то уж точно не провозглашен возвышенным гениальным произведением. Но его эпическая шеститомная «История Англии», вышедшая между 1754 и 1762 годами, стала бестселлером и сделала его финансово независимым. Отказавшись от прежнего способа написания истории как последовательности дат, имен и прославлений, Юм блестяще сочетал изучение характеров и подробностей событий с анализом широкого размаха глубинных сил. Тон был вдумчивый, вежливый, сдержанный. Эта серия выдержала более сотни изданий и все еще использовалась в конце 19 века.век.
Но его эпическая шеститомная «История Англии», вышедшая между 1754 и 1762 годами, стала бестселлером и сделала его финансово независимым. Отказавшись от прежнего способа написания истории как последовательности дат, имен и прославлений, Юм блестяще сочетал изучение характеров и подробностей событий с анализом широкого размаха глубинных сил. Тон был вдумчивый, вежливый, сдержанный. Эта серия выдержала более сотни изданий и все еще использовалась в конце 19 века.век.
Хьюм все еще справедливо чувствовал себя недооцененным. Он настаивал, что «берег Темзы» «населен варварами». Не было ни одного англичанина из 50, «который, если бы услышал, что я сегодня вечером сломал себе шею, пожалел бы». Англичане не любили его, считал Хьюм, и за то, чем он не был, и за то, кем он был: не вигом, не христианином, но определенно шотландцем. В Англии были распространены антишотландские предрассудки. Но его родина тоже, казалось, отвергла его. Последнее унижение произошло в июне 1763 года, когда шотландский премьер-министр граф Бьют назначил другого шотландского историка, Уильяма Робертсона, королевским историографом Шотландии.
Приглашение лорда Хертфорда должно было показаться неотразимым. Друзья Юма, путешествующие по Франции, уже рассказали ему о его несравненном положении в парижском обществе. И два года, проведенные им в Париже, должны были стать самыми счастливыми в его жизни. Там его восторженно приняли, осыпая, по его словам, «любезностями». Юм подчеркивал почти всеобщее суждение о его личности и морали. «Что доставило мне наибольшее удовольствие, так это обнаружить, что большинство хвалебных речей, которыми меня награждали, касались моего личного характера, моей наивности и простоты манер, искренности и мягкости моего нрава и т. д.». Действительно, его французские поклонники дали ему прозвище Le Bon David, добрый Давид.
Вскоре во французской столице не познакомиться с ним стало социальной смертью. В своем дневнике Гораций Уолпол (во время длительного визита в Париж) записывает: «Это невероятное почтение, которое они ему воздают». Другу-историку Хьюм писал: «Я могу только сказать, что я не ем ничего, кроме амброзии, не пью ничего, кроме нектара, не вдыхаю ничего, кроме благовоний, и не наступаю ни на что, кроме цветов. недоставало для выполнения самого необходимого долга, если бы они не произносили мне длинных и подробных речей в мою похвалу».
недоставало для выполнения самого необходимого долга, если бы они не произносили мне длинных и подробных речей в мою похвалу».
Щедрое внимание со стороны женщин, должно быть, стало приятным шоком для этого толстого холостяка в возрасте 50 лет. Джеймс Колфейлд (впоследствии лорд Чарлемонт), который однажды описал лицо Хьюма как «широкое и толстое, с широким ртом и без какого-либо другого выражения, кроме выражения глупости», заметил, как в Париже «ни один женский туалет не обходится без присутствия Хьюма». «.
Юм был прославлен как в придворных кругах, так и в так называемой «Республике писем», этой уникальной территории французского Просвещения салонов, управляемых выдающимися женщинами. Салоны стали системой передачи французского Просвещения, создавая, фокусируя и транслируя радикальное мнение. Хозяйки были жесткими регуляторами такта и этикета: они хотели, чтобы гости блистали, но могли задавать тон обсуждениям и настаивать на ясности языка. Их искусство заключалось в создании и поддержании цивилизованной беседы.
В салонах Юм был представлен критикам, писателям, ученым, художникам и философам, которые питали французское Просвещение, философам. Среди них были «культурный корреспондент Европы» Фридрих Гримм и редакторы этого обширного сборника, Энциклопедии, новаторский математик Жан д’Аламбер и разносторонне одаренный Дени Дидро. Дидро признал Юма единомышленником по духу Просвещения — космополитом. «Льщу себя тем, что я, как и вы, гражданин великого города мира», — писал Дидро Юму. Хьюм также стал близким другом страстного атеиста барона д’Гольбаха, крупного финансового спонсора и автора Энциклопедии. Все четверо сыграли решающую роль в ссоре Юма с Руссо.
Жизненно важным звеном в сближении Руссо и Юма была одна хозяйка салона: красивая, умная и моралистка мадам де Буффлер, в чьем ослепительном салоне с четырьмя огромными зеркалами когда-то выступал молодой Моцарт. Интимный тон писем между Юмом и мадам де Буфлерс указывает на то, что он, по крайней мере, влюбился. Через некоторое время Хьюм написал ей: «Увы! Почему я не рядом с вами, чтобы видеть вас по полчаса в день». Она польстила ему, что «восхищалась его гением» и что он вызывал у нее «отвращение к большей части людей, с которыми мне приходится жить», заканчивая одной запиской: «Я люблю тебя всем сердцем». К сожалению, Хьюм, возможно, неправильно истолковал шелковые манеры ее двора.
Она польстила ему, что «восхищалась его гением» и что он вызывал у нее «отвращение к большей части людей, с которыми мне приходится жить», заканчивая одной запиской: «Я люблю тебя всем сердцем». К сожалению, Хьюм, возможно, неправильно истолковал шелковые манеры ее двора.
С заменой посла лорда Хертфорда закончилось и пребывание Хьюма в раю. Великобритания манила. Мадам де Буфлерс попросила его помочь преследуемому Руссо получить убежище в Англии. Как мог Ле Бон Давид сказать нет?
Спаситель и изгнанник наконец встретились в Париже в декабре 1765 года. До этого между ними были лишь короткие эпистолярные отношения, отмеченные взаимными излияниями любви и восхищения. Вот Руссо о Юме: «Ваши великие взгляды, ваша поразительная беспристрастность, ваша гениальность возвысили бы вас далеко над остальным человечеством, если бы вы были менее привязаны к ним по доброте своего сердца». После их первых встреч во французской столице Юм сочинил безоговорочный панегирик своему другу-клерикалу в Шотландии, сравнивая Руссо с Сократом и, подобно мечтательному любовнику, видя красоту в недостатках своего обожаемого: «Я нахожу его кротким, нежным и скромен и добродушен. .. Господин Руссо небольшого роста и был бы скорее безобразен, если бы не прекраснейшая физиономия в мире, я имею в виду самое выразительное лицо. Его скромность кажется не хорошими манерами, а незнанием собственное превосходство».
.. Господин Руссо небольшого роста и был бы скорее безобразен, если бы не прекраснейшая физиономия в мире, я имею в виду самое выразительное лицо. Его скромность кажется не хорошими манерами, а незнанием собственное превосходство».
Несколько его друзей-философов пытались вывести Юма из состояния самодовольства. Гримм, Д’Аламбер и Дидро — все говорили на основе личного опыта, поскольку в предыдущее десятилетие у них была впечатляющая ссора с воинственным Руссо. Как следствие, они полностью разорвали с ним отношения. Самым пугающим было предупреждение барона д’Гольбаха. Было 9 часов вечера накануне отъезда Юма и Руссо в Англию. Хьюм ушел на последнее прощание. Извиняясь за то, что разрушил его иллюзии, барон сообщил Юму, что скоро он, к сожалению, выйдет из заблуждения. — Вы не знаете своего человека. Я вам прямо скажу, вы греете на своей груди змею.
Сначала все казалось хорошо. Руссо, не только радикальный мыслитель, но и один из самых популярных романистов Европы, был звездой в Лондоне. Его прибытие дало прессе возможность поздравить читателей с этим проявлением британского гостеприимства, терпимости и справедливости. Как непохоже на фанатичных, самодержавных французов!
Его прибытие дало прессе возможность поздравить читателей с этим проявлением британского гостеприимства, терпимости и справедливости. Как непохоже на фанатичных, самодержавных французов!
Конечно, должно быть, Юму, прославленному в Париже, было досадно, что, по проницательному замечанию близкого эдинбургского друга Уильяма Руэ, профессора церковной и гражданской истории, он был низведен до того, чтобы быть «излучателем льва». «. Лев выделялся своим причудливым армянским нарядом, в комплекте с мантией и шапкой с кисточками, и почти везде его сопровождал его пес Султан. Юм был поражен этой суетой, несколько подло приписывая ее любопытству Руссо.
Он по-прежнему настаивал на своей любви к Руссо — по крайней мере, когда писал своим французским друзьям. Он сказал одному из них: «Я никогда не встречал человека более любезного и более добродетельного, чем он кажется мне; он мягок, нежен, скромен, ласков, бескорыстен и, главное, наделен в высшей степени чувствительностью сердца. .. … со своей стороны, я думаю, что мог бы провести всю свою жизнь в его обществе без какой-либо опасности нашей ссоры …» Действительно, источник их согласия, думал Юм, был в том, что ни один из них не был спорщиком. Когда он повторил свои чувства Д’Гольбаху, барон был рад, что у Юма «не было повода раскаяться в проявленной вами доброте… Я бы хотел, чтобы у некоторых друзей, которых я очень ценю, не было больше причин жаловаться на его несправедливые разбирательства, печатные обвинения, неблагодарность и т. д.».
.. … со своей стороны, я думаю, что мог бы провести всю свою жизнь в его обществе без какой-либо опасности нашей ссоры …» Действительно, источник их согласия, думал Юм, был в том, что ни один из них не был спорщиком. Когда он повторил свои чувства Д’Гольбаху, барон был рад, что у Юма «не было повода раскаяться в проявленной вами доброте… Я бы хотел, чтобы у некоторых друзей, которых я очень ценю, не было больше причин жаловаться на его несправедливые разбирательства, печатные обвинения, неблагодарность и т. д.».
Хьюм работал над поиском жилья для Руссо и уговаривал своих друзей при дворе добиться королевской пенсии для беженца. Первоначально иммигранта поселили в комнатах недалеко от Стрэнда, а Хьюм остановился в своем обычном общежитии недалеко от Лестер-Филдс (сегодняшняя Лестер-сквер), которым управляли две респектабельные шотландки. Но Руссо не был любителем города. Лондон был в разгаре маниакального строительного бума. Благодаря триумфальному окончанию семилетней войны столица стала самым богатым и быстрорастущим городом на земле. Он стал магнитом для талантливых и честолюбивых, а внешняя торговля приносила новые богатства и встряхивала классовые порядки. Однако для Руссо город был полон «черных паров».
Он стал магнитом для талантливых и честолюбивых, а внешняя торговля приносила новые богатства и встряхивала классовые порядки. Однако для Руссо город был полон «черных паров».
Он переехал в пасторальную деревню Чизвик, чтобы поселиться у «честного бакалейщика» Джеймса Пуллейна. Затем, в марте 1766 года, предложение загородного дома поступило от английского джентльмена Ричарда Дэвенпорта, пожилого покровителя с солидным достатком. У Давенпорта был пустой особняк, Вуттон-холл, в уголке Стаффордшира, который, казалось, гарантировал уединение, к которому стремился Руссо.
По пути в Вуттон изгнанник остановился в жилище Юма в Лондоне в среду, 19 марта 1766 года. Это была их последняя встреча.
Руссо уже был охвачен проблесками заговора; он предупредил своих швейцарских друзей, что его письма перехватываются и его бумаги в опасности. К июню сюжет стал для него совершенно ясен во всех его разветвлениях, и в его центре был Юм. 23 июня он обратился к своему спасителю: «Вы плохо спрятались.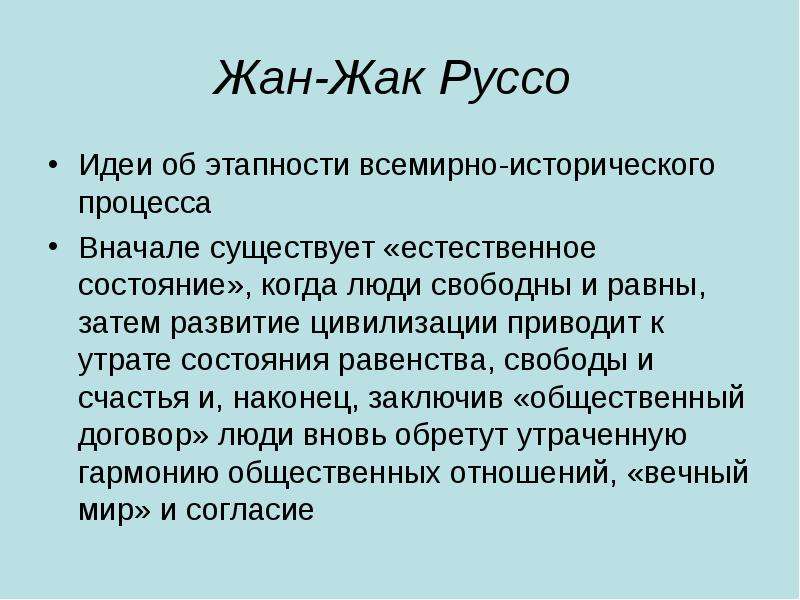 Я понимаю вас, сэр, и вы это хорошо знаете». И изложил суть заговора: «Вы привезли меня в Англию, по-видимому, для того, чтобы обеспечить мне убежище, а на самом деле, чтобы обесчестить меня. Вы отдались этому благородному делу с достойным вашего сердца рвением и с искусством». достойные ваших талантов». Хьюм был огорчен, разъярен, напуган. Он обратился к Давенпорту за поддержкой против «чудовищной неблагодарности, свирепости и безумия этого человека».
Я понимаю вас, сэр, и вы это хорошо знаете». И изложил суть заговора: «Вы привезли меня в Англию, по-видимому, для того, чтобы обеспечить мне убежище, а на самом деле, чтобы обесчестить меня. Вы отдались этому благородному делу с достойным вашего сердца рвением и с искусством». достойные ваших талантов». Хьюм был огорчен, разъярен, напуган. Он обратился к Давенпорту за поддержкой против «чудовищной неблагодарности, свирепости и безумия этого человека».
Юм был прав, опасаясь. Он знал, что Руссо работает над «Исповедью»: возможно, он даже украдкой просматривал первые страницы во время путешествия через Ла-Манш. Руссо владел самым мощным пером в Европе. Его романтический роман «Элоиза» продемонстрировал эту силу, заставив читателей плакать и вздыхать. Это был издательский феномен: спрос был настолько велик, что парижские книготорговцы сдавали его в аренду по часам. Хьюм видел, как его собственная память подвергается риску на все времена. «Вы знаете, — сказал он другому своему старому эдинбургскому другу, профессору риторики Хью Блэру, — насколько опасны любые споры по спорным вопросам с человеком его талантов».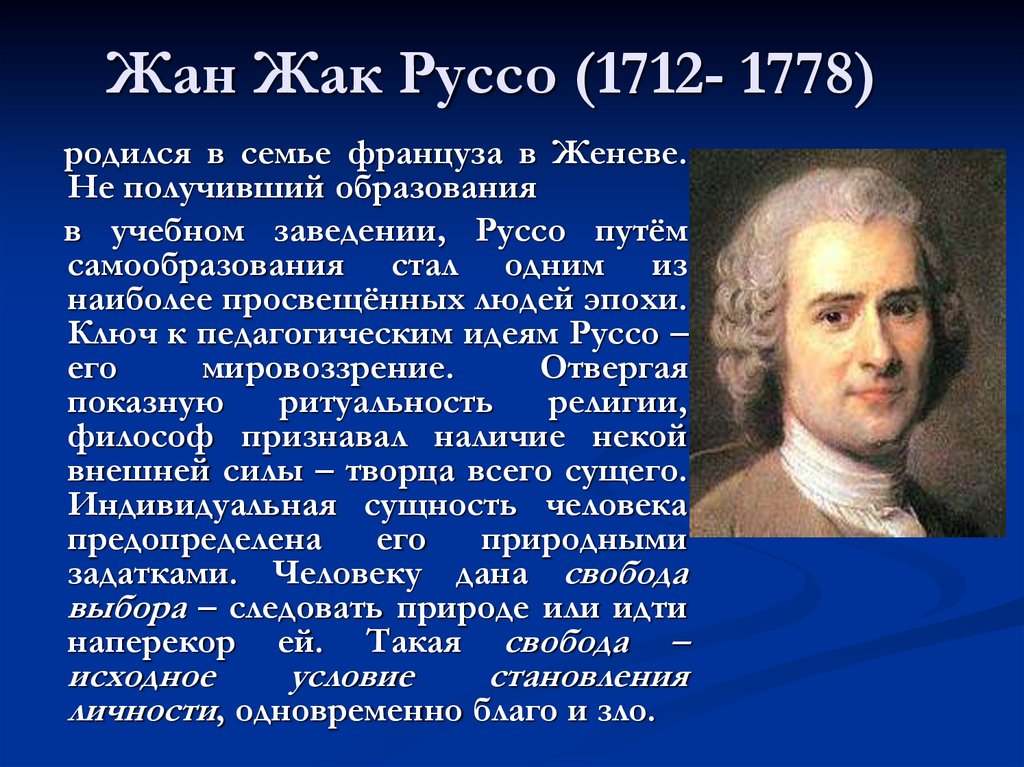
Внимание Хьюма было обращено, в частности, на Францию и на его репутацию доброго Давида. Его первые доносы на Руссо были сделаны его друзьям в Париже; его «Краткий и подлинный отчет о споре между мистером Юмом и мистером Руссо» будет опубликован там на французском языке под редакцией врагов Руссо. Он старательно избегал общения с мадам де Буффлер, зная, что она, как она это делала, будет призывать к «великодушной жалости». Описание Юмом Руссо как свирепого, злодейского и коварного человека обеспечило радостное освещение в газетах и обсуждение в модных гостиных, клубах и кофейнях. Актер-менеджер Дэвид Гаррик написал другу 18 июля, что Руссо назвал Юма «нуаром, черным и кокином, плутом».
В своем ответе Руссо Юм (опрометчиво) потребовал, чтобы Руссо опознал своего обвинителя и предоставил все подробности заговора. На первый ответ Руссо был прост и силен: «Этот обвинитель, сэр, — единственный человек в мире, чьё свидетельство я должен признать против вас: это вы сами». Ко второму Руссо приложил обвинительный акт из 63 длинных абзацев, содержащих инциденты, на которые он опирался в качестве доказательства заговора и того, как Юм коварно провернул его. Это он отправил своему врагу по почте 10 июля 1766 года. Весь документ умудрился быть одновременно довольно безумным, но резонировать с вдохновенной насмешкой и трагическим чувством. Он также был написан с драматическим чутьем романиста. Например, среди обвинений, с которыми Юму было сложнее всего справиться, было заявление Руссо о том, что по пути в Англию он слышал, как Юм бормотал во сне: «Je tiens JJ Rousseau» — у меня есть JJ Russeau. В обвинительном заключении Руссо блестяще обыграл эти «четыре ужасающих слова». «Не проходит и ночи, но мне кажется, что я слышу, у меня у вас Дж. Дж. Руссо звенит в ушах, как будто он только что произнес их. Да, мистер Хьюм, я у вас есть, я знаю, но только теми вещами, которые вне я … Вы имеете меня благодаря моей репутации и, возможно, моей безопасности … Да, мистер Хьюм, вы имеете меня всеми узами этой жизни, но вы не имеете меня благодаря моей добродетели или моей храбрости ».
Ко второму Руссо приложил обвинительный акт из 63 длинных абзацев, содержащих инциденты, на которые он опирался в качестве доказательства заговора и того, как Юм коварно провернул его. Это он отправил своему врагу по почте 10 июля 1766 года. Весь документ умудрился быть одновременно довольно безумным, но резонировать с вдохновенной насмешкой и трагическим чувством. Он также был написан с драматическим чутьем романиста. Например, среди обвинений, с которыми Юму было сложнее всего справиться, было заявление Руссо о том, что по пути в Англию он слышал, как Юм бормотал во сне: «Je tiens JJ Rousseau» — у меня есть JJ Russeau. В обвинительном заключении Руссо блестяще обыграл эти «четыре ужасающих слова». «Не проходит и ночи, но мне кажется, что я слышу, у меня у вас Дж. Дж. Руссо звенит в ушах, как будто он только что произнес их. Да, мистер Хьюм, я у вас есть, я знаю, но только теми вещами, которые вне я … Вы имеете меня благодаря моей репутации и, возможно, моей безопасности … Да, мистер Хьюм, вы имеете меня всеми узами этой жизни, но вы не имеете меня благодаря моей добродетели или моей храбрости ».
Хьюм был ошеломлен: он не мог надеяться сравниться с прозой, которую он назвал сочувствующему французу «много гениальности и красноречия». Вместо этого он кропотливо просматривал обвинительное заключение, инцидент за инцидентом, отчаянно нацарапывая «щелочь», «щелочь», «щелочь» на полях по ходу дела. Его аннотации легли в основу его Краткого отчета
Среди многочисленных обвинений Руссо было неправильное прочтение Юмом ключевого письма Руссо о королевской пенсии. Эта ошибка расстроила короля Георга III. Король был лишь одной из многих видных фигур, втянутых в ссору: среди других были Дидро, Д’Гольбах, Смит, Джеймс Босуэлл, Д’Аламбер и Гримм. Уолпол стал ключевым игроком. Вольтер тоже навалился, не в силах удержаться от возможности ударить по Руссо.
Гримм сказал, что объявление войны между Францией и Британией не наделало бы больше шума.
В освещении в прессе того, что «Ежемесячное обозрение» назвало «ссорой между этими двумя знаменитыми гениями», поддержка Хьюма была далеко не всеобщей. В то время как Руссо осуждали за отсутствие благодарности, Ежемесячное обозрение было не единственным, кто выступал за «сострадание к несчастному человеку, чей особый характер и склад ума должны, как мы опасаемся, делать его несчастным в любой ситуации». Авторы писем под прикрытием таких псевдонимов, как «Свидетель», также взялись за Руссо дубинками: одной из повторяющихся тем было отсутствие гостеприимства и уважения к изгнанию, что опозорило британский народ. В «Хрониках Сент-Джеймс» была поэтическая поддержка:
В то время как Руссо осуждали за отсутствие благодарности, Ежемесячное обозрение было не единственным, кто выступал за «сострадание к несчастному человеку, чей особый характер и склад ума должны, как мы опасаемся, делать его несчастным в любой ситуации». Авторы писем под прикрытием таких псевдонимов, как «Свидетель», также взялись за Руссо дубинками: одной из повторяющихся тем было отсутствие гостеприимства и уважения к изгнанию, что опозорило британский народ. В «Хрониках Сент-Джеймс» была поэтическая поддержка:
Руссо, будь тверд! Хоть злоба, как Вольтер,
И суеверная гордость, как Д’Аламбер
Хотя безумная самонадеянность Уолпола принимает форму,
И подлое предательство кажется, как Юм,
Но не падай духом…
Это беспристрастное обращение не было то, что ожидал Юм, а не ту версию, которую он дал мадам де Буффлер, написав, что было «много насмешек по поводу инцидента, выброшенных в газетах, но все против этого несчастного человека». Карикатура, изображающая Руссо в образе дикаря, еху, застигнутого в лесу, больше пришлась Юму по вкусу.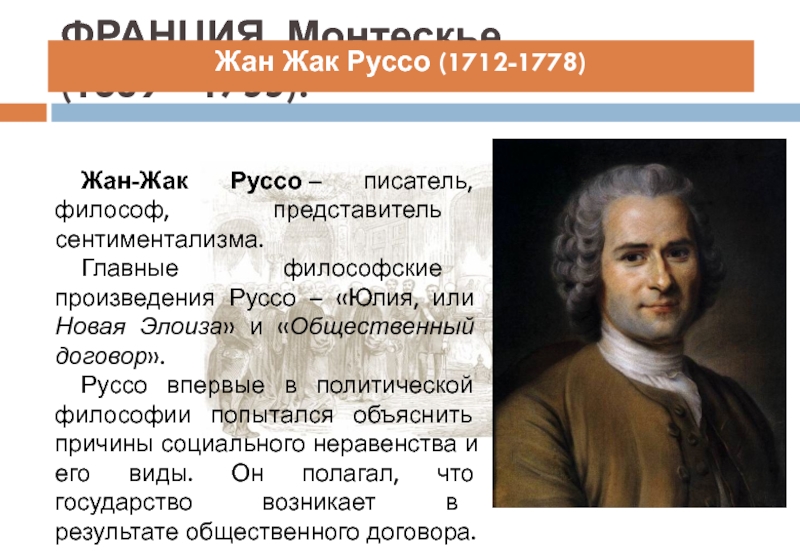 Он описал это ей с удовольствием. «Я изображен фермером, который ласкает его и предлагает ему поесть овса, от которого он в ярости отказывается; Вольтер и Даламбер подхлестывают его сзади, а Гораций Уолпол делает ему рога из папье-маше. не совсем абсурд».
Он описал это ей с удовольствием. «Я изображен фермером, который ласкает его и предлагает ему поесть овса, от которого он в ярости отказывается; Вольтер и Даламбер подхлестывают его сзади, а Гораций Уолпол делает ему рога из папье-маше. не совсем абсурд».
Итак, менее чем за год отношения между Юмом и Руссо превратились из любви в насмешку через страх и ненависть.
Оглядываясь назад, кажется маловероятным, что они когда-либо собирались ладить, лично или интеллектуально. Юм был комбинацией разума, сомнения и скептицизма. Руссо был человеком чувства, отчуждения, воображения и уверенности. В то время как мировоззрение Юма было сдержанным и сдержанным, Руссо был инстинктивно бунтарем; Юм был оптимистом, Руссо — пессимистом; Юм общительный, Руссо одиночка. Юм был настроен на компромисс, Руссо на конфронтацию. В стиле Руссо упивался парадоксом; Юм почитал ясность. Язык Руссо был пиротехническим и эмоциональным, Юма — прямым и бесстрастным. JYT Greig написал в свои 1931 биографии Юма: «Анналы литературы редко снабжают нас двумя современными писателями первого ранга, оба называемыми философами, которые нейтрализуют друг друга с почти математической точностью».
Хотя сейчас их можно охарактеризовать как мыслителей «эпохи Просвещения», вопрос о том, насколько «Просвещение» охватывает общенациональный опыт или значение, является предметом яростных споров. Особое прочтение французской истории имеет тенденцию формировать общую идею «Просвещения», как, в широком смысле, веру французских философов в то, что применение критического разума к принятым традициям и структурам приведет к человеческому прогрессу. Господствующий нарратив эпохи Просвещения становится небольшой и легко узнаваемой группой блестящих людей, центральным видом деятельности, Энциклопедией; сладость салонов, уравновешенная риском тюремного заключения, сосредоточенность на разуме и все предприятие, заканчивающееся гильотиной.
Но ни Юм, ни Руссо не вписывались легко в этот нарратив и его интеллектуальный консенсус. Руссо, в частности, яростно выступал против так называемой «цивилизации», нацеливаясь на гордое хвастовство Просвещения прогрессом (что прогресс в человеческом состоянии был достигнут и что с систематическим применением рациональности и информации улучшения могут быть ускорены). ). «Природа все сделала наилучшим образом, а мы хотим сделать еще лучше и все портим», — писал он. Делая акцент не только на разуме, но и на чувстве, на sensibilité, он приобрел бы посмертную репутацию отца романтиков.
). «Природа все сделала наилучшим образом, а мы хотим сделать еще лучше и все портим», — писал он. Делая акцент не только на разуме, но и на чувстве, на sensibilité, он приобрел бы посмертную репутацию отца романтиков.
Но Юм тоже проблематичная фигура Просвещения. Он использовал разум, чтобы продемонстрировать пределы разума, и придал своему эмпиризму разрушительную революционную силу. Доводя эмпиризм до его логического завершения, он показал, что, если полагаться на опыт, то нельзя иметь полной уверенности в существовании внешнего мира; мы не можем доверять законам природы, которые считаем само собой разумеющимися, например закону гравитации, и должны радикально переосмыслить наши представления об индукции, необходимости и личном тождестве. Этика также не могла иметь рационального основания. Логика была неподходящим инструментом для анализа морали, как лезвие разделочного ножа в воду. Разум был рабом страстей.
Правда, и Руссо, и Юм нападали на Церковь: может показаться, что по крайней мере в этом они были символическими духами Просвещения. Но на самом деле ни один из них не сделал этого таким образом, чтобы удовлетворить умников и циников в салонах. Руссо верил в бытие Бога, заявлял о своей любви к Богу и своей вере в Божью благость («все хорошо, от Бога»), а также о своей уверенности в том, что есть загробная жизнь и что душа бессмертна, что «все тонкости метафизики ни на мгновение не заставят меня усомниться».
Но на самом деле ни один из них не сделал этого таким образом, чтобы удовлетворить умников и циников в салонах. Руссо верил в бытие Бога, заявлял о своей любви к Богу и своей вере в Божью благость («все хорошо, от Бога»), а также о своей уверенности в том, что есть загробная жизнь и что душа бессмертна, что «все тонкости метафизики ни на мгновение не заставят меня усомниться».
Что касается Юма, то хотя в Шотландии его проклинали за то, что у него слишком мало религии, в Париже, где он корчился от пренебрежительного отношения к верующим, его бремя заключалось в том, что у него было слишком много. Правда, он разрушил аргументы, призванные доказать существование Бога, в том числе аргумент от замысла — утверждение, что только высшее и доброжелательное существо может объяснить чудо и порядок в мире. Этот аргумент, настаивал Юм, несостоятелен. Как это могло объяснить страдания в мире? Как мы можем заключить, что существует только один архитектор мира, а не кооператив двух или более?
Юм также писал, что «Я бы не оскорбил благочестивых».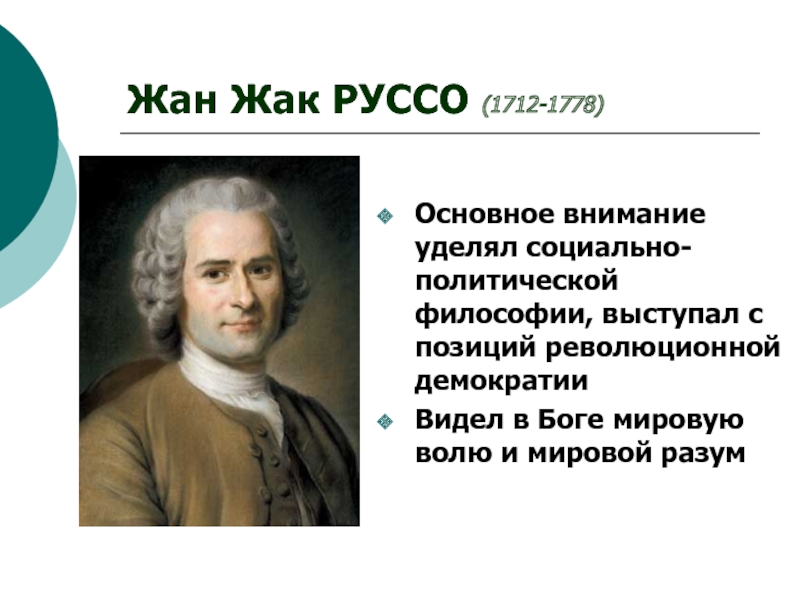 Однажды, обедая с бароном д’Гольбахом, он заявил, что никогда не видел атеиста, и задался вопросом, существуют ли они на самом деле. Д’Гольбах ответил, что Хьюм обедает с 17 из них.
Однажды, обедая с бароном д’Гольбахом, он заявил, что никогда не видел атеиста, и задался вопросом, существуют ли они на самом деле. Д’Гольбах ответил, что Хьюм обедает с 17 из них.
Для биографов дело Руссо было второстепенным в большей схеме поразительных достижений Юма. Но поведение Юма является откровением. Его отношения с Руссо и размолвка оказали на него давление, и это давление открыло человека. Внимательно изучив постоянную переписку, мы можем увидеть, что Юм с самого начала не хотел сопровождать Руссо в Англию, надеясь делегировать эту задачу. И пока Юм рассказывал своим французским друзьям о своей любви к Руссо, его двоюродный брат Джон Хоум, «шотландский Шекспир», всего через 10 дней после того, как Юм привез своего подопечного в Лондон, заметил его разочарование «философом, который позволил себе чтобы им в равной степени правили его собака и его хозяйка».
Письмо Хьюма Хью Блэру раскрывает то, что скрывалось за излияниями любви: «[Руссо, живущий в стаффордширском одиночестве] будет несчастен в этой ситуации, как он действительно был всегда во всех ситуациях.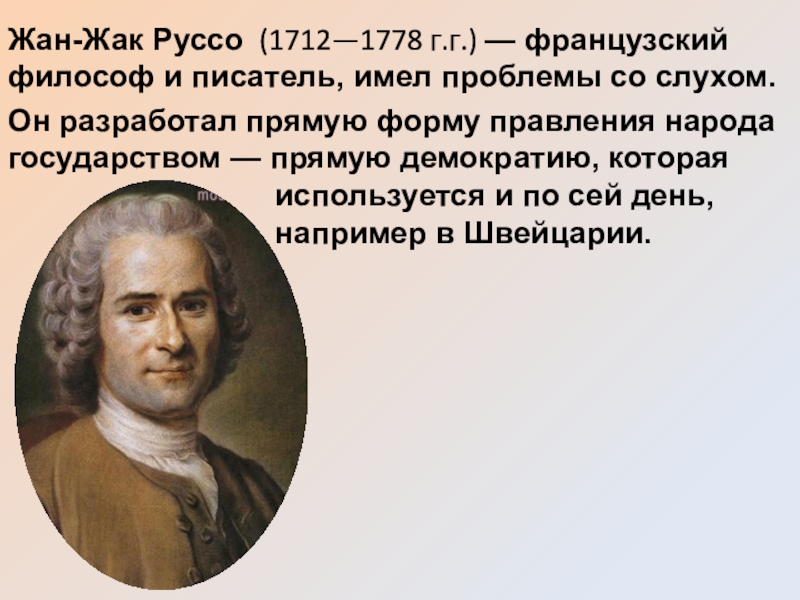 Он будет полностью без занятий, без общества и почти без всяких развлечений, он очень мало читал в течение своей жизни и теперь совершенно отказался от всякого чтения: он очень мало видел и не имеет никакого любопытства, чтобы увидеть или отметить Он, собственно говоря, размышлял и изучал очень мало, да и знаний у него, в сущности, немного: он только чувствовал в течение всей своей жизни, и в этом отношении его чувствительность возвышается до такого уровня, какой я не видел ни у одного другого. пример: но это все же дает ему более острое чувство боли, чем удовольствия. Он подобен человеку … лишенному не только своей одежды, но и своей кожи ».
Он будет полностью без занятий, без общества и почти без всяких развлечений, он очень мало читал в течение своей жизни и теперь совершенно отказался от всякого чтения: он очень мало видел и не имеет никакого любопытства, чтобы увидеть или отметить Он, собственно говоря, размышлял и изучал очень мало, да и знаний у него, в сущности, немного: он только чувствовал в течение всей своей жизни, и в этом отношении его чувствительность возвышается до такого уровня, какой я не видел ни у одного другого. пример: но это все же дает ему более острое чувство боли, чем удовольствия. Он подобен человеку … лишенному не только своей одежды, но и своей кожи ».
На самом деле, кроме чувствительности, все это было ложью. Руссо был начитан и никогда не обходился без занятий, в том числе музыкой и ботаникой. В сельской местности Англии он познакомился с коллекционером и ботаником, герцогиней Портлендской, и они вместе отправились в счастливые экспедиции в Пик-Дистрикт. И, конечно же, Руссо работал над «Исповедью».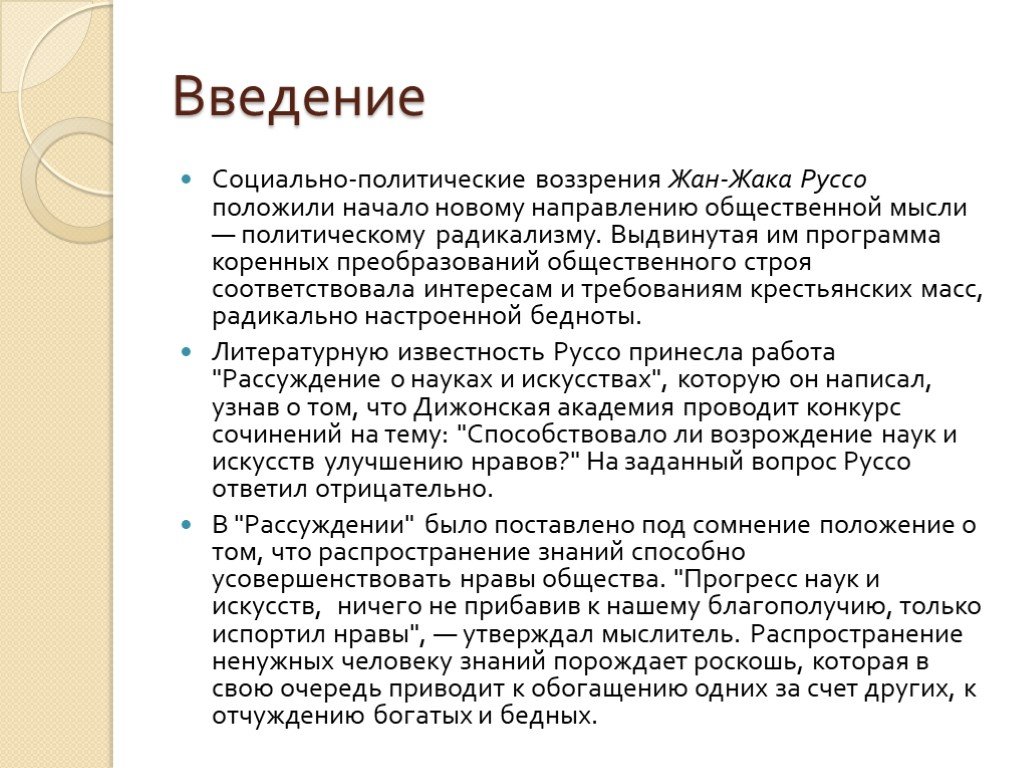 На этом творческая жизнь Юма закончилась.
На этом творческая жизнь Юма закончилась.
За спиной Руссо Хьюм провел навязчивое расследование финансов Руссо. Он попросил различных французских контактов навести справки от его имени, хотя и скрывал от каждого друга, что он также спрашивал других. Мадам де Буфлерс была сбита с толку, узнав, что Юм поручил ей и д’Гольбаху выполнить одно и то же поручение. «С какой целью?» Были ли эти расследования, она потребовала от Юма: «Ты не станешь его доносчиком, после того как был его защитником…» Да, он станет. Нет никаких сомнений в том, что Хьюм хочет получить информацию, чтобы помочь Руссо. Он сам ясно дает понять, что на карту поставлен характер Руссо: был ли он мошенником, заявляющим о своей бедности?
Он очернил Руссо в письме к Д’Аламберу в таких грязных выражениях, что Д’Аламбер уничтожил письма и ответил вместе с другими, настойчиво советуя умеренному человеку оставаться умеренным. Руссо, по словам Юма, был разоблачен как «безусловно самый черный и самый жестокий злодей, вне всякого сравнения, который сейчас существует в мире».
Но никакого заговора у Юма не было, хотя Руссо не совсем ошибался, когда обвинял Юма в предательстве. Сатирическое письмо якобы от короля Пруссии, язвительно высмеивающее осажденных швейцарцев, было центральным звеном в построении Руссо заговора. Письмо обещало Руссо убежище, предлагая мучительный стимул: «Если вы хотите новых несчастий, я король и могу сделать вас такими несчастными, как вы пожелаете».
На самом деле Уолпол в Париже был автором розыгрыша (на французском языке) незадолго до прибытия Руссо на встречу с Юмом. Уолпол водил его по очень дорогим салонам. Письмо «короля Пруссии» даже попало в лондонскую прессу и в убежище Руссо в Стаффордшире. Изгнанник был очень расстроен. Хьюм утверждал, что совершенно не знал о подделке. Но небольшой литературный детектив показывает, что он присутствовал на обеде, с которого началась шутка, и что он, вероятно, внес самый ранящий ее удар — в одном письме г-жа де Буффлер, которая была потрясена сатирой, утверждала, что это было общеизвестно в Париже. . Хьюм присутствовал на двух обедах, на которых Уолпол читал письмо вслух
. Хьюм присутствовал на двух обедах, на которых Уолпол читал письмо вслух
Действия Хьюма в этом деле были полны злобы. Его письма были полны полуправды и лжи: например, что Руссо назвал его самым черным из людей, что у него есть доказательства того, что Руссо в течение двух месяцев замышлял обесчестить его, что король Георг III был «очень предубежден» против Руссо. — все откровенно неправда. А после того, как Руссо вернулся во Францию, чтобы жить под защитой мадам де Буффлер, Юм сообщил Смиту, что Руссо избегают. Он предложил г-же де Буффлер и другим, что для его собственного блага Руссо лучше всего запереть как сумасшедшего. Разум Ле Бон Давида стал рабом его страстей.
В Париже в качестве наставника герцога Бакклю во время его Великого путешествия по Европе в 1766 году Адам Смит был среди тех, кто советовал сдержанность. Когда он передал свою посмертную дань уважения своему другу, «почти приближающуюся к идее совершенно мудрого и добродетельного человека, насколько, возможно, позволяет природа человеческой слабости», Смит воочию увидел, насколько восприимчивым к человеческой слабости был Юм.