Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности?
Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нём человека, а также — его жизненные позиции, программы поведения, действия. Оно придаёт его деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер.Жизненные ценности – ценности человека, реально организующие его жизнь. Человек может выбирать свои ценности, но если он их выбрал, они становятся над ним и он им подчиняется. Ценности похожи на правила, и то и другое есть совокупность предписаний, но если правила человек иногда хочет обойти, то жизненные ценности — это правила, внутренне обязательные для человека, это то, зачем человек следит сам и чему изменить не может.
Личность обязательно предполагает наличие своего взгляда на мир. Другими словами, невозможна личность без мировоззрения. Этим словом принято определять систему взглядов на мир, на место человека в нём и на смысл его жизни и деятельности. То есть это прежде всего идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают определённую картину мира и человека.
То есть это прежде всего идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают определённую картину мира и человека.
Система таких взглядов есть у любого человека, претендующего на то, чтобы называться личностью. У одних людей вся система их взглядов определяется убеждением в ценности человечества, гуманным и справедливым отношением к другим людям, желанием трудиться на общее благо. Картина мира таких личностей охватывает весь мир во всём его многообразии. Они умеют радоваться разнообразию и богатству красок окружающего мира. Им свойственны и нравственные принципы, и возвышенные идеалы красоты.
Другие люди вполне довольны тем, что их маленький мир ограничен своим домом, близкими и родными а их благом. Житейские заботы и бури составляют для них смысл жизни. Они не задумываются над вечными вопросами о смысле жизни.
Третьи вообще за пределами собственного «я» не видят ничего и не признают за другими людьми равных со своими прав и возможностей. Весь мир таких людей вращается вокруг одного-единственного светоча. Их картина мира сужена до собственных забот и достижений.
Их картина мира сужена до собственных забот и достижений.
Узнаем как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека?
У каждого человека в зависимости от типа характера, воспитания, среды, в которой он растет и развивается, формируется своя система ценностей и взглядов на мир. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека? Есть ли между ними прямая взаимосвязь?
Понятие мировоззрения
Мировоззрение — это система верований человека, его убеждений и знаний. Оно формируется всю жизнь, может периодически изменяться и корректироваться. Так, у ребенка мировоззрение достаточно узкое и ограничивается желанием получить то, что ему хочется, заплакать, если ему этого не дали или что-то не получилось, и радоваться простым вещам.
По мере взросления перед человеком встают уже более сложные задачи, начиная от выбора профессии и заканчивая поиском смысла жизни. Мировоззрение основывается на знаниях и опыте, постоянно получаемыми людьми. Оно включает в себя такие компоненты как миропонимание и мироощущение. Наше мировоззрение проявляется, прежде всего, в поступках, а выбор линии поведения зависит от наших убеждений.
Наше мировоззрение проявляется, прежде всего, в поступках, а выбор линии поведения зависит от наших убеждений.
Что называют жизненными ценностями?
Жизненные ценности – это совокупность материальных и нематериальных благ, имеющих огромное значение в жизни человека. Они играют весомую роль в формировании поведения людей. Руководствуясь жизненными ценностями, мы совершаем те либо иные действия. Зная, как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека, можно предугадать, как он поступит в конкретной ситуации.
В качестве примеров жизненных ценностей можно привести такие как: семейное счастье и дети, достижение больших результатов в карьере, друзья, стремление к власти, занятие спортом, развлечения и путешествия. У каждого человека может быть свой идеал, мечта и свои приоритеты. В этом нет ничего плохого. Главное, чтобы эти жизненные ценности не шли вразрез с моральными нормами и правами других людей.
Как соотносятся между собой мировоззрение и жизненные ценности?
Каждый взрослый человек имеет свои взгляды на мир, свои мечты и цели, к которым он стремится. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности людей? Что формируется в человеке первично?
Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности людей? Что формируется в человеке первично?
Некоторые считают, что люди оценивают различные ситуации согласно своим жизненным ценностям. Соответственно, все поступки мотивированы тем, что представляет для человека наибольшую важность. Это означает, что жизненные ценности формируют мировоззрение человека.
На самом же деле мировоззрение является фундаментальным началом в людях и формирует жизненные ценности. Так, к примеру, человек, рожденный в семье верующих людей, приобретает религиозное мировоззрение. Исходя их этого складываются его жизненные ценности – любовь к Богу, следование заповедям, помощь ближним, отсутствие греховных помыслов. Это и есть ответом на вопрос о том, как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности человека.
Мировоззрение — что это такое
Обновлено 24 июля 2021- Что это такое
- Что собой представляет мировоззрение человека
- Структура мировоззрения
- Его виды и типы
- Как оно соотносится с жизненными ценностями
Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo. ru. У любого из нас есть представление о том, как «работает» наш мир: в каждой голове существует его персональная картина.
ru. У любого из нас есть представление о том, как «работает» наш мир: в каждой голове существует его персональная картина.
Руководствуясь своими принципами, убеждениями и стереотипами, мы сами для себя решаем, что возможно, а что нет, что есть добро, а что зло, определяем свое место в нем. Все перечисленное можно назвать одним словом – мировоззрение.
Определение — что это такое
Расшифровать данный термин несложно: достаточно увидеть, что он состоит из двух слов – мир и зрение.
То есть мировоззрение – это то, как я вижу мир, в котором живу, каким я его воспринимаю, что мне известно о нем. Личный опыт, система ценностей человека формируют субъективное видение.
Кому-то он кажется прекрасным, загадочным, вызывающим восторг и радость, другие постоянно высматривают в нем опасность и не выходят из оборонительной позиции. Это зависит от внутренней призмы, сквозь которую человек смотрит на реальность.
Все же знают, что такое калейдоскоп? Наверное, у каждого в детстве была такая труба, смотря в которую вы видели причудливые узоры, меняющиеся при кручении трубы.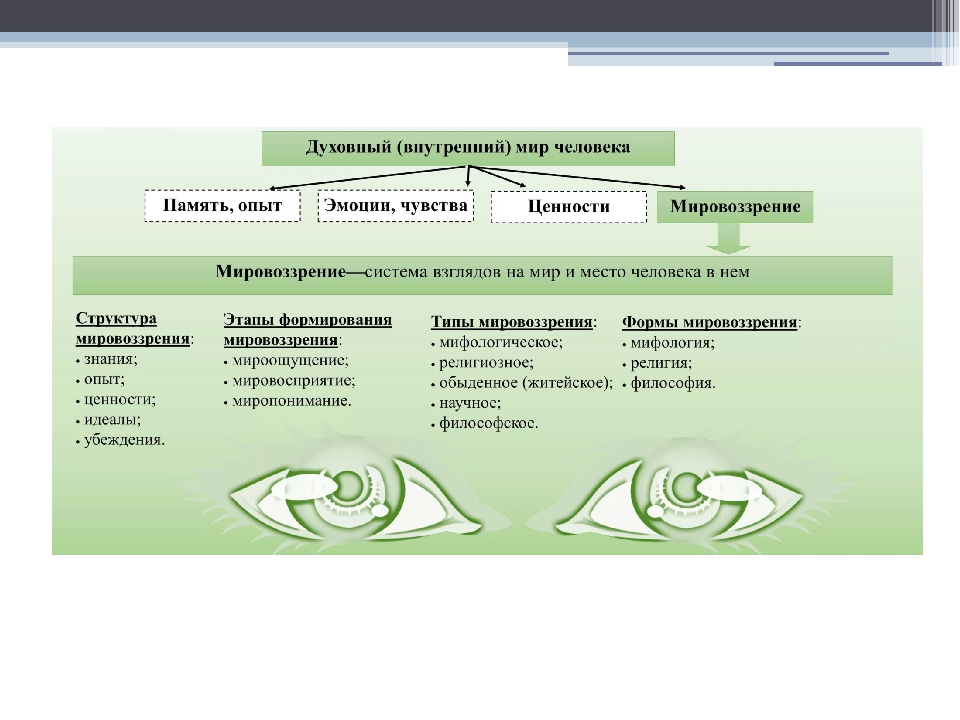 Суть работы калейдоскопа в том, что находящиеся внутри него разноцветные элементы, при разных положениях трубы собираются в разные рисунки.
Суть работы калейдоскопа в том, что находящиеся внутри него разноцветные элементы, при разных положениях трубы собираются в разные рисунки.
Этим же принципом можно объяснить, что собой представляет мировоззрение человека, и почему различаются миропредставления отдельных людей. По сути, мир один и тот же – состоит из одной и той же совокупности частей, но каждый видит его по-своему – свой персональный узор сквозь свою призму (сознание).
Кто я? Кто меня окружает? В чем смысле моей жизни? Для чего мы есть? Наверняка вы задавались подобными вопросами. А это и есть вопросы, которые говорят о том, что вы формируете свое мировоззрение.
Это совокупность взглядов на мир, который окружает нас. Это целостное представление о природе, обществе (что это такое?) и человеке. Все это формирует набор ценностей отдельной личности, группы или всего общества в целом.
Что собой представляет мировоззрение человека
То есть, носителем мировидения может быть как отдельный человек (вы, я), так и общество в целом. В последнем случае это называют менталитетом, присущим тому или иному обществу.
В последнем случае это называют менталитетом, присущим тому или иному обществу.
Структура мировоззрения такова:
- Мироощущение — это те эмоции, которые вы переживаете. Ваше настроение и чувства в разных обстоятельствах и среди разных людей.
- Мировосприятие — это ваше общее видение мира и отношение к нему.
- Миропонимание — это ваша система взглядов (и идей) на мир в целом. Строится на рационально-теоретическом уровне сознания.
- Мироотношение — это совокупность ваших ценностей (установок по тем или иным жизненным вопросам). Формируется на основе первого и третьего пунктов данной структуры.
- Менталитет — это все вместе взятое отнесенное к одному этносу, нации, группе людей (обществу). Он складывается на основе общего исторического, культурного и экономического опыта развития.
Как оно формируется
Каждый человек рождается в конкретной стране, семье, теле. Огромный вклад в его мироощущение делают родители и другие значимые люди: учителя, родственники, сверстники. Таким образом, мировоззрение начинает формироваться с первого дня рождения.
Огромный вклад в его мироощущение делают родители и другие значимые люди: учителя, родственники, сверстники. Таким образом, мировоззрение начинает формироваться с первого дня рождения.
Если мама с папой любят, холят и лелеют малыша, он распознает мир как теплый и заботливый, чувствует важность своего нахождения в нем. Жестокие или дистанцированные взрослые учат ребенка ощущать себя ненужным, лишним, а мир – полным опасностей.
В процессе воспитания, обучения и социализации (что это?) индивид обретает знания о том, что представляет из себя реальность. Изначально каждый из нас является чистым листом, на котором постепенно вырисовывается определенный рисунок – субъективная картина мира.
Структура мировоззрения
Структура состоит из 6 компонентов:
- Знания могут быть научными, практическими и профессиональными. Чем шире их спектр, тем более устойчивой является позиция по жизни. Если я много знаю, имею большой жизненный «багаж», то сбить меня с пути практически невозможно.
 И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта.
И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта. - Чувства – это субъективная реакция человека на внешние стимулы. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Это зависит от состояния психики, в котором пребывает индивид.
- Ценности. Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности, понять несложно. Если семья является для вас особо значимым явлением, а для вашего партнера нет, то разность ваших мировоззрений не позволит вам создать удачный и продолжительный брачный союз. Каждый воспринимает мир, опираясь на персональную совокупность норм и правил.
- Поступки – через них мы демонстрируем содержание нашей картины реальности.
- Убеждения являются основой, на которой мы выстраиваем отношения в обществе.
- Характер человека также влияет на то, каким будет его мировоззрение.
 Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким.
Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким.
Виды и типы мировоззрения
Каким же бывает мировоззрение: его виды и формы отличаются друг от друга уровнем самосознания человечества, которое менялось с течением времени. В различные эпохи люди воспринимали и трактовали реальность по-разному.
Сначала существовали следующие исторические виды (формы) мировоззрения:
- Философское мировоззрение содержит в своей основе логическое мышление, позволяющее прийти к истине. Философия опирается на теорию, системность, обобщение через призму разума, а не чувств. Эта наука возникла примерно в одно и то же время с рассматриваемым в этой статье понятием: первое определяет второе. Второе не может существовать без первого;
- Религиозное объединяет людей в конфессии, основанное на догмах (что это?) и морально-нравственных правилах.
 Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно;
Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно; - Мифологическое мировоззрение появилось благодаря тому, что человек не мог объяснить некоторые реалии жизни. Например, почему мы умираем? Как появляется дождь? Куда уходит день? Непонимание чего-либо рождало (и до сих пор рождает) тревогу, и чтобы справиться с ней, люди придумывали для себя логическое объяснение происходящему (неосознанно, конечно).
На сегодняшний день добавились еще 3 типа:
- Научное мировоззрение можно назвать противоположностью религиозного и мифологического. Если последние не имеют доказательной базы, опираются лишь на фантазии, домыслы и слухи, то научный взгляд на мир содержит в своей основе законы, выявленные и доказанные опытным путем. Это позволило усовершенствовать старые знания;
- Гуманистический вид мировоззрения предполагает признание каждого индивида свободной и независимой личностью, имеющей право на счастье (что это?) и развитие (что это?).

И.Кант писал о том, что человек – есть цель, но никак не средство для других, и общество должно способствовать тому, чтобы каждый реализовался и раскрылся в полной мере.
Конечно, такое мировидение попахивает утопией, является идеалом, к которому нужно стремиться, но никак не относится к реальному положению дел в обществе; - Обыденное мировоззрение складывается самостоятельно у каждого человека. Сюда входят наши ценности, установки и принципы, освоенные в процессе воспитания и взросления. Данный взгляд руководствуется здравым смыслом и имеющимся опытом.
Как соотносятся мировоззрение и жизненные ценности
Итак, когда мы знаем, что такое и каких типов оно бывает, можно подумать, для чего оно собственно нужно? В чем его смысл или суть?
Дело в том, что человеческая природа, психика, душа, сущность (называйте, как удобно) стремится к упорядоченному бытию. Хаос в мыслях, действиях и вообще в жизни может довести любого до сумасшествия. Ну, или нервного расстройства, как минимум.
Ну, или нервного расстройства, как минимум.
Нам всем нужна определенность: мы хотим знать, что будет завтра и волнуемся за свое будущее. Хотим быть уверенными в близких людях и очень расстраиваемся, когда нас предают (подумайте, где еще для вас важна предсказуемость).
Основная функция (ценность) мировоззрения заключается в том, что оно делает для нас мир понятным, удобным и безопасным. Это важно для психического здоровья, которое зависит от степени удовлетворенности жизнью, ее стабильности.
Часто случается так, что мы сталкиваемся с ситуациями, в которых происходит разрыв шаблона – крах некоторых элементов жизненной парадигмы (что это такое?). Момент, когда старое видение разрушено, а новое еще не создано, называется кризисом мировоззрения. Сколько он будет длиться – зависит от личностных особенностей человека.
Например, вы свято верили в дружбу с человеком, которого знали много лет, но в один прекрасный день он оказался предателем.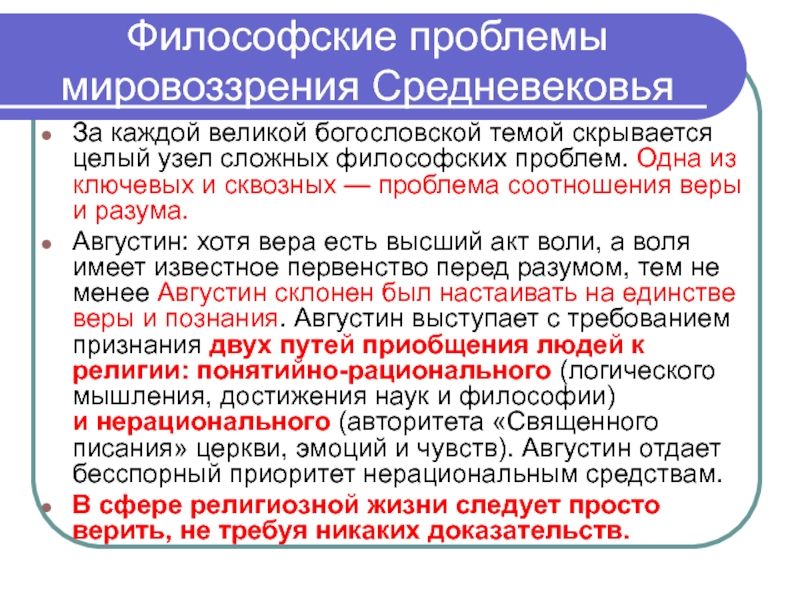 Ценность дружбы теряется для вас в одну секунду.
Ценность дружбы теряется для вас в одну секунду.
Возможно, вы оправитесь от удара и будете дружить с кем-то еще, но уже без былой самоотдачи и более низким уровнем доверия. Но может произойти и так, что вы заречетесь от подобных отношений раз и навсегда.
И в первом, и во втором случае мировоззрение будет восстановлено, но уже в видоизмененном состоянии.
Автор статьи: Коваленко Лилия Сергеевна (психолог)
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ruЛекция 1
%PDF-1.5 % 2 0 obj > /Metadata 5 0 R /StructTreeRoot 6 0 R >> endobj 5 0 obj > stream 2014-10-03T11:21:59+03:002014-10-10T15:27:01+03:00Microsoft® Word 2010Microsoft® Word 2010application/pdf

Глава 7. Русское мировоззрение в поэзии и прозе М.Ю. Лермонтова.
А. И. Герцен писал: «Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 г., чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир… Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.
Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, — воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 г.; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножия Кавказских гор…
Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами, — воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 г.; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножия Кавказских гор…
…Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря, разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания, вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! … то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения, мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах… …Раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, его сила… …Он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли… Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово».[1]
В приведенном отрывке Герцен объясняет противоречия личности и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) социально-политическими переменами в жизни России, наступлением николаевской эпохи «безвременья», невозможностью открытой общественной борьбы. И здесь, как представляется, приводимые Герценом причины, вполне могут быть признаны истинными. В самом деле: поколению Лермонтова, в сравнении с поколением его великого предшественника – Пушкина, не повезло. Оно запоздало родиться, и на его долю не выпало ни войны 1812 года, ни попытки дворянского переворота года 1825. Не о том ли с горькой иронией сожалеет и сам поэт в своей «Думе»: «Печально я гляжу на наше поколенье…»? Похоже, действительно, в постдекабристскую эпоху он печалится о невозможности полноценного героического воплощения своих стремлений и идеалов.
Соглашаясь с неизбежностью воздействия на личность и мировоззрение поэта социально-политических превращений, мы хотели бы вместе с тем отметить, что многое в лермонтовской натуре определялось более глубокими причинами психологического свойства, коренилось в глубинных основах становления его индивидуальности. А когда речь идет о его творчестве, то в нем в гораздо большей мере (может быть, как раз благодаря имманентным свойствам его личности), чем в творчестве Пушкина осуществились главные тенденции русского мировоззрения, так или иначе находившие выражение в литературном процессе как до, так и после Лермонтова.
Знаток русской литературы Даниил Андреев видел в миссии Лермонтова одну из глубочайших загадок отечественной культуры, поскольку в его личности и творчестве различаются две противоположные тенденции: богоборческая, грозно-героическая, и светлая, задушевная, теплая вера («Роза мира»). Но ведь едва ли не в мировоззрении каждого хрестоматийного героя русской классической словесности — от Чацкого до братьев Карамазовых и Дмитрия Нехлюдова – можно увидеть борьбу этих разнополюсных сил, что не чуждо, кстати говоря, в иной своей ипостаси и «низовым» натурам нашей классики, вроде «очарованного странника» или Ермолая Лопахина. Можно было бы сказать, что мировоззрение героев русской классики ХIХ века и держится на этих противоречиях. Так что русской литературе, по метафизической, так сказать, сути ее, гораздо ближе Лермонтов с его душераздирающими противоречиями, болезненным, на грани покаяния, разочарованием, чем возрожденчески гармоничный Пушкин.
По-своему это обстоятельство толкует Д. Мережковский в статье «Поэт сверхчеловечества»: «На первый взгляд может показаться, что русская литература пошла не за Пушкиным, а за Лермонтовым, захотела быть не только эстетическим созерцанием, но и пророческим действием – «глаголом жечь сердца людей». Стоит, однако, вглядеться пристальнее, чтобы увидеть, как пушкинская чара усыпляет буйную стихию Лермонтова. …В начале – буря, а в конце – тишь да гладь. Тишь да гладь – в созерцательном аскетизме Гоголя, в созерцательном эстетизме Тургенева, в православной реакции Достоевского, в буддийском неделании Толстого. Лермонтовская действенность вечно борется с пушкинской созерцательностью, вечно ею побеждается…»[2]
Может быть, и на самом деле русская литература пошла вслед за Пушкиным, а не за Лермонтовым, но с Лермонтовым все же в беспокойной душе. Согласимся, что перед Лермонтовым не столько стоял вопрос «Что делать?», сколько вопрос о Боге в нем самом и в его Отчизне, которую он мог любить только «странною любовью». Не отсюда ли убеждение того же Мережковского в том, что не от «благословенного» Пушкина, а от «проклятого» Лермонтова мы получили… «образок святой» – завет матери, завет родины. От народа к нам идет Пушкин; от нас – к народу Лермонтов; пусть не дошел, он все-таки шел к нему. И если мы когда-нибудь дойдем до народа в предстоящем религиозном движении от небесного идеализма к земному реализму, от старого неба к новой земле – «Земле Божией», «Матери Божией», то не от Пушкина, а от Лермонтова начнется это будущее народничество.[3]
В поэтическом миросознании и реализованном в стихах и прозе мировоззрении Лермонтова особое место занимает миф о некой глубинной народной правде, «подсказанный» вполне реальным ощущением отечественной почвы. Миф этот слышен в его балладе «Бородино», в которой воссоздается взгляд на известные исторические события простого солдата, ветерана Отечественной войны 1812 года. И это видение по художественной логике баллады есть безусловная правда на все времена, на фоне которой очевидной становится ущербность современной автору действительности. В рассказе ветерана нам является некий героический «золотой век» людей-богатырей, вровень которым были и их командиры:
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой…
Здесь простые солдаты-богатыри, ведомые такими мифическими командирами, сливались воедино со своим Государством, воплощенным в деяниях не менее великих царей, которых ныне уже не найти. С точки зрения этого народного богатырства современники лирического героя баллады выглядят пигмеями, которым ветеран «дядя» с укором и печальным сожалением бросает:
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы…
Современная лирическому герою Лермонтова действительность недостойна своих богатырей, своих гениев. Это настроение и эта оценка воспроизводится и в знаменитом стихотворении «Смерть поэта». В действительности гении гибнут, как погиб великий Поэт, гордость нации. Погиб от руки наглого пришельца, которому содействуют «надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов». И здесь лирический герой бросает обвинение убожеству современности не столько от своего лица, сколько от лица высших сил, в которых, может быть, воплощен и народный гнев.
Адресация лирического героя Лермонтова к некой высшей правде, к «мысли народной», что позднее возьмет на вооружение Л.Н. Толстой, наполняет стихи поэта своеобразной фольклорностью, стремлением к самым широким обобщениям в духе народной поэзии, что можно легко обнаружить даже в тех стихотворениях поэта, которые пронизаны глубоко личным чувством. В этом смысле очень характерны такие стихи как «Завещание»(1840) или «Сон»(1841). В оценках наличного человеческого мира, которому поэт так и хочет дерзко бросить в глаза «железный стих, облитый горечью и злостью», критерием служит девственная чистота Природы, с которой, в представлении лирического героя, сливается Божий Лик («Когда волнуется желтеющая нива», 1837).
Поскольку мир людей, в которых лирический герой Лермонтова принужден обретаться, никак его не устраивает, он всегда – изгой, изгнанник («Тучи»,1840) или добровольный странник, не имеющий пристанища, вроде дубового листка, оторвавшегося от ветки родимой (стихи 1841 г.).
Как нам представляется, именно М.Ю. Лермонтов наиболее полно воплотил в своем творчестве, в частности, в лирике, имманентно присущее русскому мировоззрению представление о принципиальном несовершенстве наличного мира, что стало, пожалуй, магистральным настроением в сюжете русской классической словесности. Глубоко переживаемое несовершенство наличного социума заставляет героя отечественной классики превратиться в вечного добровольного (или насильного) изгнанника, каким и предстает лермонтовский Поэт.
И если пушкинский Поэт награждается воистину божественной мощью творческого пророчества и готов «глаголом жечь сердца людей», то «Пророк» Лермонтова – это пророк в кавычках, ему вообще нет места среди людей. Он не уживается с человеческим миром, а в состоянии ужиться только с миром Природы, где ему «покорна тварь земная». «Пророк» (1841) – итоговое лирическое произведение Лермонтова, как бы навеки припечатывающее клеймо изгойства к челу национального Поэта России:
Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!
В этих стихах ясно звучит заявка на опровержение пушкинского «Пророка» (1826) на долгие времена, как неопровержимое завещание потомкам. И поскольку он изгнанник уже с момента признания своей миссии, постольку и патриотизм его носит особый характер. Это, если угодно, принципиальное отвержение традиционного патриотизма – в пику, кстати говоря, и патриотам ХХ — ХХI вв.
В стихотворении «Родина» (1841), которое в первых вариантах носило название «Отчизна», лирический герой Лермонтова ясно определяет приоритеты своего «патриотизма». Причем, определяет их как приоритеты странника, вечно ищущего пристанища. Это пристанище может быть обретено только за пределами цивилизованного социума, там, где «степей холодное молчанье», «лесов безбрежных колыханье», «разливы рек, подобные морям». Там, в конце концов, где лирический герой в дорожной тоске встречает «дрожащие огни печальных деревень». Природа и крестьянин – вот приоритеты. В заключительном двенадцатистишии они конкретизируются уже как манифест поэта:
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Стихотворение репродуцирует, по сути, традиционное мировидение крестьянина, представленное, однако, в рамках мировоззрения романтического героя-отшельника, отвергаемого цивилизованным миром. Кстати говоря, эта романтическая позиция воспроизводится, с соответствующей поправкой на национальную специфику, и европейской литературой. Мотивы эти можно отыскать и у Гете, и у Байрона. Однако в русской классике репродуцирование крестьянской точки зрения на мир приобретает особый смысл. Крестьянской она может быть лишь в достаточно ограниченном смысле – в смысле воспроизведения, например, известных предметно-вещных «мифологем»: желтая нива; березы; полное гумно; изба, покрытая соломой; окно с резными ставнями; крестьянский праздник; пьяные мужики. Но здесь важнее другое: для лирического героя этот поэтический миф природно-деревенского мира с его фундаментальными образными опорами есть истина в последней инстанции, критерий жизненной правды.
Эти критерии приобретают особую актуальность в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837). Как известно, произведение было создано на Кавказе, куда поэт был сослан за написание стихотворения на смерть Пушкина. Событие роковой пушкинской дуэли определенным образом сказалось в противостоянии и последующем кулачном сражении купца с опричником. Правда, результат здесь обратный: посягатель на семейные устои Кирибеевич получил по заслугам.
В своей статье о стихотворениях Лермонтова 1840 года В.Г. Белинский основную идею «Бородино» трактовал как «жалобу на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».[4] Обращаясь к «Песне», критик продолжает: «Здесь поэт от настоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость его нравов, богатырскую силу и размет его чувства и, как будто современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми ее оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других, — и вынес из нее вымышленную боль, которая достовернее всякой действительности, несомненнее всякой истории…»[5]
Фактическая сторона истории здесь, очевидно, условна. Поэт явно стилизует речевой строй своего произведения, тем более что у него есть реальные источники в отечественном историческом фольклоре (см., напр., «Кулачный бой братьев Калашничков с Кострюком»). Эти обстоятельства не скрыты и от взора Белинского, который художественность «Песни» видит в том, что она «подделывается под лад старинный и заставляет гусляров петь ее». Но гораздо важнее для него то, что «Песня» «представляет собою факт о кровном родстве духа поэта с народным духом… Самый выбор этого предмета свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностью и перенесшегося от нее в далекое прошедшее, чтобы там искать жизни, которой он не видит в настоящем…»[6] (Выделено нами. – С.Н., В.Ф.).
Лермонтов не зря сдвигает исторический сюжет в сторону балладной любовной темы. И здесь возникает существенный сюжетный поворот, который мог быть свойствен только писателю-реалисту. Ведь воспроизводится не собственно любовная интрига, а столкновение государственного своеволия и принципов купеческого домостроя. Здесь сделан шаг от мифа в чистом виде к романному миросознанию, мировоззрению новой эпохи, которую открыл для России ХIХ век.
Степан Парамонович Калашников с братьями защищает, как и Пушкин, между прочим, честь частного дома, семьи. Причем, готов за это жизнь положить. Таким образом, мы имеем дело с личностным (в рамках той художественной условности, конечно, к которой вольно или невольно прибегает Лермонтов) противостоянием человека — Государству в лице Ивана Грозного и его слуг. Сюжет произведения выстраивается так, что народное мнение обнаруживает явное сочувствие к купцу и его семейству. Вот почему фольклорный финал произведения и окрашивается эпической печалью по герою, казненному «смертью лютою, позорною». Могилка Калашникова «на чистом поле промеж трех дорог» осталась «безымянною». Здесь – народный укор государю, обещавшему царские милости осужденному царским судом купцу. Народная оценка государевых поступков как бы прячется в глубь сюжета, возникая в стороне от самой фигуры царя.
Тема частной человеческой судьбы в произведении, сплошь стилизованном под фольклорную историческую песню, развивается на нескольких сюжетных «уровнях». Так во внешне целостной стилизации под историческую песню формируется раскачивающее сюжет противоречие – существенное, пожалуй, для мировоззрения самого Лермонтова.
Новый «уровень» частной темы – судьба Кирибеевича. Если «народное мнение», за которое «прячется» Лермонтов, исполнено сочувствием к Калашникову, то почему же тогда так много места в сюжете занимает его обидчик Кирибеевич, его поступки и, главное, его переживания? Мало того, описание гибели опричника от смертельного удара его противника исполнено такого щемящего лиризма, который никак не может быть свойствен фольклору, тем более что в этот момент в нас невольно возникает осуждение Калашникова за излишнюю жестокость и непримиримость.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная…
Здесь «Песня» покидает рамки эпического объективизма, то есть того слоя, который абсолютно точно идентифицируется с «народным мнением» как основой фольклорного образа. Лирическое укрупнение «отрицательного», по всем фольклорным меркам, героя заставляет приглядеться к этой фигуре внимательнее. Поэт возбуждает сочувствие к герою как бы вопреки народному мнению, именующему Кирибеевича «лукавым рабом» царя.
Опричник Кирибеевич из роду Скуратовых, вскормленный семьею Малютиной, особо приближен к Ивану Грозному и привык во что бы то ни стало исполнять свои самые рискованные желания. С другой стороны, Иван Васильевич не может позволить, чтобы «дума крепкая» слишком уж овладевала «верным слугой» без его царского на то позволения. Мнительный царь сразу же обвиняет своего слугу в злых умыслах, когда обнаруживает странную для государя задумчивость слуги на пиру. Царь прямо угрожает опричнику казнью.
Так государственная власть объявляет свои претензии не только на служебные, так сказать, стороны жизни своего слуги, но и на его частное существование, на его душу, волю, нравственный выбор. При внешнем своеволии Кирибеевича, он находится в полной зависимости от государя. Собственно, само его своеволие обеспечивается его зависимостью от царя, поскольку высота его государственной службы заранее оправдывает любой его незаконный поступок.
Нравственно-психологоческая ситуация, в которую попадает «отрицательный», по фольклорным меркам, герой Лермонтова исполнена неподдельного трагизма. Слепо отдавшись в руки безграничной власти Грозного царя, Кирибеевич так же слепо идет против «закона нашего христианского» и в слепоте своей, а может быть, и искренне любя Алену Дмитриевну, принимает на душу грех посягательства на основы чужого частного дома. По сути, сам самодержец подталкивает своего раба к беззаконию, соблазнив его внешней безнаказанностью власти. А такая власть, по своей безнравственной сути, и сама, конечно, беззаконна.
Этот этический вывод, как результат уже не абстрактно фольклорного, а глубоко личностного проникновения во взаимоотношения власти и индивидуальности, в то же время как на фундамент опирается на весь народный строй «Песни» и становится итогом именно народной оценки события.
Вместе с тем в круг мировоззренческих этических установок поэмы входит и безусловная необходимость пожалеть виноватого, проникнуться милосердным состраданием к слепо принявшему на душу грех. Как раз из лирического сострадания к Кирибеевичу и вырастает нравственное сопротивление беззаконию власти, посягающей на права, на суверенность духовного мира личности. Поднимая в рамках фольклорной стилизации глубоко личностные проблемы, Лермонтов акцентирует наше внимание на положительной стороне русского народного мировоззрения как основы национальной этики. Здесь находит продолжение нравственная проблематика, поднятая Пушкиным в «Борисе Годунове».
Трансформированное в поэме Лермонтова народное мнение – свидетельство присутствия положительной внутренней энергии в традиционном «молчании» русского народа. Это не равнодушная немота (как в «Борисе Годунове»), а потрясение от содеянного, путь к осознанию этической ущербности власти в ее борьбе за собственное упрочение. И в то же время это и прозрение народом собственной вины.
В своей «Песне» Лермонтов как бы уточняет, корректирует этический вывод пушкинского «Бориса». Поэт ясно обозначает приоритеты народной оценки деяний Грозного царя, когда, не утрачивая традиционного уважения к верховной власти, народное мнение в лице гусляров-исполнителей песни дает государевым поступкам однозначную нравственную оценку.
Подспудно в размышлениях Лермонтова о взаимоотношениях народа и власти возникают мысли о народном бунте, опять-таки являясь своеобразным продолжением пушкинской традиции в художественном развитии этой темы. Здесь имеет смысл напомнить о раннем стихотворении поэта, носящем условное название «Предсказание»(1830):
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
Это стихотворение было написано под впечатлением крестьянских волнений в России, усилившихся в 1830 г. в связи с эпидемией холеры. И в этих стихах, и в романе «Вадим» (1833 — 1834) Лермонтов как бы признает за народом право на бунт, но изображает бунтующих мрачными красками.
По свидетельству исследователей творчества Лермонтова, его ранний роман основан на истинном происшествии. Его действие происходит в Пензенской губернии, в районе Нижне-Ломовского и Керенского уездов, где летом 1774 г. развернулось крестьянское восстание. Некоторые полагают, что описанная Лермонтовым местность – это окрестности села Пачелма, а монастырь, с описания которого начинается роман, — это Нижне-Ломовский монастырь. Рассказы о расправе пугачевцев над помещиками Лермонтов мог слышать от тараханских старожилов, а историю Вадима ему могла рассказать бабушка: среди примкнувших к пугачевцам оказалось несколько помещичьих сыновей.
Сведения эти подчеркивают реальность фактической опоры лермонтовского замысла, хотя портрет его героя, как и обстоятельства, в которые он попадает, носят абсолютно романтический, книжный характер. В то же время Лермонтов наделяет своего героя гротесково преувеличенными чертами собственной внешности и собственными же бунтарскими настроениями и переживаниями.
Рассказывая о том, как в его герое формировался предводитель народного бунта, автор делится своими размышлениями о причинах пугачевских волнений, связанных с вполне определенными характеристиками мировоззрения русского народа. «Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь их могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!..
Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо; он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть и способы ее поддерживать – не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!»[7]
Едва ли не в радищевском духе объясняет Лермонтов причины бунта злонравием помещиков, не сумевших при смене социальных обстоятельств найти соответствующие нормы взаимоотношений со своими рабами, которые хотели во всяком случае «гордиться своим рабством».
Писатель рисует образ помещика Палицына, не знающего границ своим низким страстям, подобно пушкинскому Троекурову. Читатель из уст страшного горбуна Вадима узнает историю нравственных преступлений злонравного дворянина, погубившего своего друга, забравшего к себе трехлетнюю дочь последнего, чтобы позднее воспользоваться ее юной красотой для услаждения своих низких страстей. Душа самого Вадима не случайно пылает мрачным пламенем мести: ведь он — сын погубленного дворянина и брат Ольги, взятой для утех Палицына.
По замыслу автора, живущий ужасными мстительными страстями Вадим, связавшийся с восставшими и поощряющий их страшные деяния, есть прямое воплощение самой жестокой и кровавой стороны народного бунта, действительно, безжалостного и беспощадного. Читатель видит разнузданную в своих мстительных страстях толпу, становится свидетелем страшных казней не только тех, кто своим злонравием заслужил наказания, но и дворян достойных, существ невинных. Мрачный пафос неоконченного романа Лермонтова, отмеченного юношеским романтическим максимализмом, состоит в простой мысли: злонравие представителей правящего класса порождает катастрофы стократ ужаснейшие, нежели сами преступления злонравных. Тут молодой поэт ни на йоту не отходит в своих мировоззренческих установках от пафоса отечественных просветителей ХVIII века. В то же время страшные картины преступлений восставшей толпы невольно заставляют думать о некой внутренне присущей этой толпе страсти к разрушению, независимо от наличия или отсутствия злонравия среди дворянского сословия.
Пройдет еще несколько лет, и в своем зрелом романе «Герой нашего времени» (1841) Лермонтов в гораздо более реалистических красках изобразит мировоззрение и характер взаимоотношений образованного слоя российского дворянства и представителей иных классов, в том числе и представителей народной массы.
Сюжет «Героя нашего времени» — типично романный: испытательное странствие героя. Читатель, во-первых, знакомится с путешествующим русским офицером-повествователем, который сам в пути наталкивается на другого странника – ветерана кавказских войн штабс-капитана Максима Максимыча. История же, рассказанная штабс-капитаном, — это вновь история странничества главного героя романа – Григория Александровича Печорина. Во-вторых, читатель узнает, что это странничество не только физическое – во времени и пространстве, но и духовное, как свидетельствуют дневники Печорина.
Важно отметить, что довольно сложное в сюжетно-жанровом построении произведение отвергает возможность романтического отрыва от социально-психологической и социально-исторической реальности 1840-х годов, от действительных примет становящегося мировоззрения дворянского интеллигента той поры.
Жанр «Героя нашего времени» – это и путевые заметки, которые ведет офицер-повествователь и в которые внедряется экзотическая горская повесть «Бэла» вместе с бытовой зарисовкой на тему встречи Максима Максимовича с Печориным. Это, в то же время, и дневниковые записи из «Журнала Печорина», внутри которого хорошо различаются и авантюрная разбойничья повесть о «честных контрабандистах» («Тамань»), и светский роман-интрига «Княжна Мери», и авантюрно-философская, с мистическим оттенком новелла («Фаталист»).
Взаимодействуя в целостном теле романа, эти жанры дают не сумму, а новое качество. Авантюрные сюжеты, оформленные в духе современной Лермонтову романтической романистики и по внешним признакам явно вымышленные, вступают в контрапунктические взаимоотношения с документальной прозой путевых заметок и дневниковых записей, то есть фактически с самой жизненной правдой (в художественно условной, конечно, системе романа). Так, повесть «Бэла», с ее горской экзотикой, погружена в абсолютно прозаическую атмосферу нелегких казенных передвижений повествователя и Максима Максимыча. В результате появляется масса прозаических подробностей, «обытовляющих» приподнятый романтизм истории о несчастной Бэле. Рассказ штабс-капитана начинается с описания толпы обнищавших горцев, подъема на «проклятую гору», что сопровождается тележным скрипом и изматывающими душу криками работников, жаждущих получить «на водку». Здесь и подробное описание неуютной сакли, прикрепленной одним боком к скале, трех мокрых ступеней, по которым русские офицеры попадают внутрь.
«Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться…»[8]
Все это отчасти напоминает радищевское описание избы русского крестьянина в его знаменитом «Путешествии…». Для русского европейца, только что прибывшего из заграничного обучения, изба представлялась такой же экзотикой, как и для «цивилизованных» русских офицеров «дикий» образ жизни горских племен. Правда, русские офицеры у Лермонтова далеки от разоблачительных речей в адрес имперских властей. Они гораздо спокойнее, точнее, равнодушнее воспринимают описанные картины. Ничего, кроме снисходительного презрения к «дикарям» и условиям их жизни не слышно в репликах офицеров: «Жалкие люди!» (повествователь), «Преглупый народ!» (Максим Максимыч).
В таком же духе строится описание продолжения путешествия, как бы рассекающее историю Бэлы на две неравные части. «Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, на этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз в десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться…»[9]
Как видно, победы цивилизации для наших отечественных колонизаторов заключаются прежде всего в том, что, в отличие от «жалкого» и «преглупого» осетинского мужика-«дикаря», наш ни в грош не ценит собственную жизнь, как, впрочем, и жизнь своего господина вместе с его добром, целиком полагаясь на знаменитый русский «авось». А представитель русского же образованного слоя превращает приметы низовой ментальности в некую философию, что в единстве своем оборачивается одной из существенных характеристик русского мировоззрения в целом. Хотя Лермонтов об этом и не говорит, но принимая во внимание только что отмеченное, мы вправе предположить и еще одну характерную особенность нашего национального мировоззрения, а именно – его принципиальную иррациональность.
Выступая в роли колонизаторов и совершенно не прикрываясь никакими рассуждениями о государственной необходимости, террористической опасности и прочих стандартных в этом случае оговорках, русские офицеры на Кавказе – в основном выходцы из помещичьих семей, в массе своей просто лениво и незатейливо проживают жизнь. Создается впечатление, что они даже не заботятся о том, чтобы использовать свое положение для личного обогащения, как это обычно делали колонизаторы из других стран. Очевидно, что типичная для них форма поведения, о чем в свое время напишет и Л.Н. Толстой, это лениво-посредственное, без усердия и заботы о достижении цели, исполнение воли царя. То есть, ведут они себя как люди, несущие повинность и делающие вынужденную работу, как титулованные или нетитулованные холопы, посланные исполнять свой крепостной «урок» в виде завоевания чужих территорий.
Приведенные фрагменты путевых заметок из романа явно конфликтуют с экзотикой картин горской повести о Бэле. Но ведь именно здесь, в такой же нищете и привычном неуюте живет и девушка, и ее брат, и ее отец, и абрек Казбич. Это их мир, освоенный ими, родной для них. Русские офицеры вместе со своей обслугой тоже живут здесь и вроде бы привычно живут. Но для них этот мир так и не становится своим, а остается миром «преглупых», «жалких» дикарей. Да он и не может никогда стать для них «своим», ведь завоевывают они его для своего господина – русского царя, а им самим от этого, даже успешного завоевания, пользы никакой не будет, тем более – пользы личной. (Последнее уточнение особенно важно, ведь в центре повествования – не заурядные исполнители чужой воли, а мыслящие и глубоко чувствующие передовые люди своего времени).
В таком контексте становится очевидным, что авантюрно-мелодраматическая фабула «Бэлы» есть мир горцев, но преображенный романтическим взглядом, брошенным не изнутри этой жизни, а из цивилизованного Петербурга, сквозь романтику прозы, скажем, Бестужева-Марлинского.
Атмосфера и интонации путевых записок – переживание происходящего. Здесь – равнодушное презрение русских к горским племенам, причем, не только со стороны Печорина, для которого Бэла — очередная забава, скрашивающая скуку кавказской службы, но и со стороны доброго Максима Максимыча. Штабс-капитан хоть и считает, что похищение Бэлы «нехорошее дело», но не особенно этому «делу» сопротивляется – между тем как по правилам самой службы обязан был это сделать, являясь командиром Печорина. Более того. По адресу юного брата Бэлы — Азамата, когда узнает, что тот пропал без вести, спокойно заключает: «Верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком, или за Кубанью: туда и дорога!..»
Такова природа русского имперского «интернационализма» в его, можно сказать, истоках. Здесь есть что-то от отношения белых колонизаторов к цветнымдикарям, которые, с точки зрения «цивилизованного» великого народа, даже и не совсем люди, к которым могут быть применимы этические критерии государствообразующей нации.
Как выглядит этот «интернационализм» на уровне доброго, но не очень образованного, скажем так, «неокультуренного» Максима Максимыча, мы видим. И готовы простить симпатичному герою его «великорусский» шовинизм, снисходительный взгляд на «меньших братьев» «кавказской национальности», хотя бы в силу тягот той службы, которую этот ветеран из дня в день несет на чужой стороне, без дома, без семьи. Но, познакомившись позднее, например, с известными рассказами А.П. Чехова «Дочь Альбиона» и «На чужбине», мы увидим, как этот взгляд трансформируется на протяжение полувека.
Но вернемся к лермонтовскому роману, где со всей очевидностью мы видим столкновение двух абсолютно чужих друг другу миров: европеизированной, цивилизованной Российской Империи и «дикого» Востока в лице горских племен (осетин, черкесов и т.д.). При этом Максим Максимыч смотрит на мир горцев глазами, можно сказать, «простого» человека, близкого народному миросознанию, глазами служаки-кавказца, а взгляд путешественника и Печорина скорректирован европейским воспитанием, да и образ жизни этих людей в значительной степени отъединен от кавказской службы. И поэтому, несмотря на известное единство взгляда русского человека на кавказских «дикарей», штабс-капитан все же ближе миру горцев. Он — своеобразное связующее звено между ними и Печориным, но в то же время, как и семья Бэлы, жертва равнодушия и эгоизма русского европейца. Не случайно, в раздражении, штабс-капитан ставит на одну доску и Печорина, и путешественника: «Вы молодежь светская, гордая». И действительно, с точки зрения путешественника, переживания Максима Максимыча не более, чем «старые заблуждения».
И здесь возникает существенная для отношений самих русских проблема: для Максима Максимыча Печорин едва ли не такой же иностранец, как далекие французы или англичане; ему, действительно, гораздо ближе какой-нибудь Казбич, нежели его чистенький, беленький подчиненный Григорий Александрович Печорин. Дистанция между ними едва ли не большая, чем между любым иностранцем и штабс-капитаном – это и есть, кстати говоря, показанная в романе Лермонтова дистанция между русским дворянским интеллигентом и народом.
В этом смысле примечателен предшествующий разлуке диалог капитана и повествователя о «странностях» Печорина. Он как бы предваряет, по интонации и роли в сюжете, заключительную беседу Максима Максимыча с Печориным о предопределении. Здесь — та же наивная «невключенность» кавказского служаки в тонкости духовной жизни его «высоких» соплеменников.
«Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста,… вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?
Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как и все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивали, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок. – Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:
-А все, чай, французы ввели моду скучать?
-Нет, англичане.
-Ага, вот что!.. … да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!»[10]
Повестователь, как и Печорин, извиняет штабс-капитану его светское «невежество», снисходя до «дикарской» малой осведомленности собеседника из «низших слоев общества», пока еще ничего не ведающего о той моде скучать, которую постигли люди из печоринской среды и которые поэтому рифмуются в сознании «простого» человека с «отъявленными пьяницами англичанами».
В этом диалоге есть ироническая оценка наивности штабс-капитана, его известной ограниченности, но есть в то же время и гораздо более суровая оценка закрытых в своих «европейских» комплексах русских дворян образованного слоя. Фактически, Максим Максимыч своими комментариями к странностям сослуживца низводит их из области демонической в область прозаического течения жизни. В этом, можно сказать, состоит здоровая стихийная мудрость кавказского ветерана. Она сродни той мудрости, которую демонстрирует «дядя» ветеран в балладе «Бородино». Она, пожалуй, сродни и мудрости капитана Тушина из «Войны и мира» Л.Н. Толстого, хотя толстовский герой кажется нам гораздо более философичным, нежели его лермонтовский предшественник.
Итак, мы видим, как в реалистической прозе М.Ю. Лермонтова прозой же обыденной жизни поверяются романтические фабулы русской литературы этого периода, заимствованные во многом из литературы европейской, как и мировоззрение дворянского сословия, живущего с оглядкой на кумиров, вроде Байрона и Наполеона.
В «Журнале Печорина» мы наблюдаем ту же корректировку традиционных романтических фабул прозаизмами естественного течения жизни. Так, вся лихо закрученная история приключений героя в Тамани разворачивается в «самом скверном городишке из всех приморских городов России», в унылой, убогой среде, напоминающей описание сакли в начале романа. «Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа… В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел…»[11]
Это проза, которую, кстати говоря, высоко оценил А.П. Чехов, сам большой мастер прозаического воплощения обыденного течения жизни. Но воображение Печорина, подпитанное соответствующим воспитанием, соответствующей культурой, вносит свои интонации в развитие сюжета – дневник-то его. Здесь и мальчик-слепец приобретает романтическую мистическую странность, и девушка выглядит то гетевской Миньоной, то ундиной из литературных образцов немецкого романтизма. Печорин пытается воздействовать на событие (хотя бы и в своем воображении) так, чтобы оно приобрело романтическую окраску в духе известных ему литературных примеров, весьма далеких от реальности. Реальная жизнь «честных контрабандистов» настолько же чужда Печорину, как и жизнь горцев. Ни той, ни другой и дела нет до «демонизма» Печорина, которым он покоряет Мери Лиговскую. Не случайно так насмешливо прозаичен финал «Тамани», окрашенный собственно авторскими интонациями.
«Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, — подарок приятеля, — все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось со старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще и с подорожной по казенной надобности!..»[12]
Это едва ли не чеховский амбивалентный финал, переводящий иронической интонацией все романтическое приключение в совершенно иную жанровую, стилевую и идейную плоскость. Берет свое и торжествует проза российской жизни, которой совершенно неадекватны романтические игры Печорина с образами собственного воображения. Герой Лермонтова хочет формировать событие жизни по меркам своего социально-культурного опыта, как бы приподнимая его над унылостью его собственного существования. Но сама жизнь этому сопротивляется. Она оказывается шире, сложнее, чем то, что из нее хочет в своем миросознании соорудить скучающий русский интеллигент 1840-х годов.
«Жанр» собственного поведения в обществе заботит Печорина больше, чем «жанр» текущей жизни, а поэтому ему всякий раз приходится над этой жизнью как бы совершать насилие, втискивая ее в знакомые ему и для него желанные «жанровые» рамки, отчего страдает не сама жизнь, а именно он – странствующий русский офицер-дворянин, «да еще с подорожной по казенной надобности». В этой нестыковке реальной русской жизни и мировоззрения русского же дворянского интеллигента и заключена, на наш взгляд, существенная проблема национальной нашей ментальности, с предельной резкостью обозначенная в лермонтовском творчестве. Эту характеристику нашего мировоззрения, встречающуюся, конечно, и в других культурах, можно было бы представить как попытку «состыковать» собственные фантазии о жизни с самой жизнью, а иногда и более – попытаться перестроить или даже сломать жизнь под собственные фантазии. Безжалостно и неумолимо, не учитывая логики и имманентных целей самой жизни.
В центральной части своего дневника «Княжна Мери» Печорин -сознательно или нет — создает светский роман с изощренной любовной интригой. Но романтически описывая свои приключения, он захватывает такие «обертоны», которые никак не могли быть запланированы предусмотренным им жанром. Испытания Печорина здесь состоят, конечно, не в его взаимоотношениях с Мери или Верой, и не в дуэли с несчастным Грушницким, а в том, что все эти события есть составляющие целостного потока жизни, с множеством других судеб, и как раз этот поток — главный «оппонент» лермонтовского героя.
Вместе с тем, наступившие после восстания декабристов новые времена и cопутствующие им новые нравы, а также содержание как самого жизненного потока, так и противостоящего ему лирического героя претерпело существенные перемены. Возможность рассмотреть это более внимательно предоставляет сравнение анализировавшейся нами ранее пушкинской повести «Выстрел» и включенной в лермонтовский роман линии конфликта Печорина с Грушницким. Как мы помним, в «Выстреле» обе дуэли Сильвио с графом по сути являются проверками порядочности и чести последнего. Второй проверки граф не выдерживает: при визите Сильвио к нему в имение он сперва проявляет недопустимую слабость, соглашаясь тянуть жребий вторично, а затем – снова стреляя в противника. В этой связи знаменательны последние слышанные нами слова Сильвио в адрес графа: «…Я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Передаю тебя твоей совести»[13]. И Сильвио, и автор, и мы, читатели, понимаем, что это не пустые слова и граф теперь действительно обречен на суд собственной чести. А содержащийся в повести рассказ об этом событии самого графа, равно как и присутствующая в нем его оценка себя прошлого, показывают, что урок даром не прошел.
Иное время, иные нравы и иную развязку рисует автор «Героя нашего времени». Как помним, повод к дуэли проистекал из того, что Грушницкий и его приятель драгунский капитан делают неудачную попытку схватить Печорина, когда он ночью спускался с балкона дома, в котором жила княжна, а затем Грушницкий имеет низость не только рассказать об этом в офицерском обществе публично и порицать княжну («Какова княжна? а? Ну, уж, признаюсь, московские барышни!»), но и назвать имя Печорина.
Печорин предлагает Грушницкому извиниться, но получает отказ. В свою очередь драгунский капитан толкает новоиспеченного офицера совершить подлость – обмануть и убить Печорина во время дуэли (его пистолет предполагается оставить без пули) и тот соглашается. Далее мы наблюдаем несколько попыток со стороны Печорина фактически спасти Грушницкого от бесчестья, что в понятиях Печорина важно: «…Теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей»; «Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния»; «Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?» и т.п. Это, однако, не помогло: для молодого Грушницкого эти ценности не существуют.
Итак, в обоих сюжетах – у Пушкина и Лермонтова, конечная инстанция, к которой идет апелляция, — совесть, честь. Но в одном случае она, хотя и не сразу, откликается, а во втором остается глуха[14].
Есть и еще одно отличие, касающееся глубины проявлений изображаемых художниками персонажей. Так, если у Пушкина герои подаются все же как бы со стороны, объективно, то у Лермонтова сам герой активно размышляет и делает свои размышления предметом рассмотрения читателя. Конечно, дело здесь и в том, что избранный Лермонтовым жанр – дневник. Однако, как представляется, первичным для автора «Героя» было намерение ввести читателя в душу Печорина, показать его как бы изнутри, что и вызвало к жизни жанр дневникового изложения.
Таким образом, мы получаем возможность наблюдать за внутренней жизнью главного персонажа, в том числе – и за движениями составных элементов его мировоззрения. В отличие от пушкинского, лермонтовский герой начинает активно рефлектирует, анализирует себя, доходя до самых последних своих глубин. Вот как признается на этот счет сам Печорин: «Я давно уже живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй… второй?»[15]
В целом, построение сюжета в романе «Герой нашего времени» таково, что его герои переправляются из одной системы верований, представлений, этических норм – в другую. Из одной, твердой системы ценностей, в другую – менее твердую. Из православной России — в земли с иным языком, иной культурой. А с точки зрения самих героев – в земли дикие, к дикарям. И романные странники – это не просто русские, а русские европейского воспитания. В их речи то и дело возникают имена европейских же кумиров (Байрон, Гете, Скотт, Бальзак, Стендаль, Руссо и др. – в подтексте их гораздо больше), указывая на истоки мировоззрения и поведения героев.
Своеобразным Вергилием в этом «диком» мире оказывается Максим Максимыч. Взглянем на него со стороны лермонтовского очерка «Кавказец»: он — «…существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор… Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенялся страстью к Кавказу… Наконец он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку…; все прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля… Он во сне совершает рыцарские подвиги – мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: все одно и то же… Между тем хотя грудь увешана крестами, а чины нейдут. Он стал мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки… Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту…
…Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств… Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия… О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только все с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом… хотя и чисто живут, очень чисто!»
…Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.
Но годы бегут, кавказцу уже 40 лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет на пенсион; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч, и помаленьку пробирается на родину…»[16]
Портрет кавказца сопрягается с фигурой Максима Максимыча и еще раз подчеркивает ее сугубую прозаичность, Вряд ли здесь можно говорить о каком-то определенном мировоззрении – в человеке, воспитанном убогой средой, ограниченной условиями кавказской службы. В нем сформировались определенные социально-психологические реакции на те или иные события ставшей привычной для него жизни, в том числе и во взаимоотношениях с представителями горских племен. Вряд ли он сможет толком объяснить, почему, например, черкесы лучше чеченцев. Так установилось в его восприятии, по логике, совершенно необъяснимой, поскольку его реакции – это, скорее, социальные условные рефлексы, чем результат работы сознания. Между тем за образом Максима Максимыча стоит то, что можно назвать народным мировоззрением в его типичном выражении.
В силу известной наивности, неиспорченности европейским воспитанием Максим Максимыч более адекватно реагирует на вполне искусственные забавы скучающего интеллигента Печорина. И это происходит потому, что в персонажах разворачивающихся перед нами «экзотических» историй он видит все же живых людей. Вот его непосредственная оценка истории Бэлы: «…а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка: эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет 12-ть уже не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать».[17]
Так фигура Максима Максимыча приобретает в романе все большую объемность и, нужно сказать, круто поворачивает сюжет романтического мифа в сторону самой реальной жизни, а значит, превращает довольно абстрактных романтических героев в живых людей, возвышенную экзотику – в страшную своим прозаизмом драму. Максим Максимыч, травмированный хроническим солдатским бездомьем, ищет тепла в каждом новом человеке, пытаясь создать нечто вроде семейного очага в своем скитальческом одиночестве, что совершенно чуждо Печорину, например. Но ведь именно его, Печорина, штабс-капитан сразу же принимает как своего. В этом один из секретов существования Максима Максимыча как народного типа в чужом жизненном пространстве: он пытается его обжить, одомашнить. Для него Казбич хоть и разбойник, а все-таки кунак.
На фоне Максима Максимыча Печорин, с его байроническими исповедями, воспринимается как фигура довольно искусственная, во всяком случае, внешняя живому течению жизни. Перед нами живой труп в социально-психологическом смысле. Не случайно с его дневниковыми записями как повествователь, так и читатель знакомятся уже после смерти героя – по сути, знакомятся с дневниками мертвеца.
Важна для понимания образа Печорина новелла о его последней встрече с Максимом Максимычем, которую наблюдает и повествователь. И эта новелла интересна своими путевыми подробностями, среди которых для Максима Максимыча всегда найдется естественное место, но Печорин среди них выглядит более, чем экзотически, а иногда попросту смешно («бальзакова кокетка»). Так, о появлении Печорина читатель получает сигнал по щегольской коляске, совершенно, кажется, не приспособленной к таким дорогам, и по зазнавшемуся лакею-холую, очень желающему походить на барина. Все это и есть Печорин – то есть та искусственная жизнь, которую он вокруг себя формирует. Может быть, поэтому портрет героя отдает восковой кукольностью и в печоринской фигуре, и во всем, что происходит вокруг него и с ним, ощущается его приговоренность к духовной смерти. Недолгое пребывание здесь мертвеца обдает всех крещенским холодом: «Поневоле сердце очерствеет и душа закроется… Я уехал один», — заключает свое повествование странствующий офицер.
Это и есть, кажется, естественный финал истории Печорина, который показывает, что никакого Печорина на самом деле нет, а есть миф или, еще точнее – мистификация. Записки из страны Мертвого. Вот что, в конце концов, постигает повествователь в ходе своего странствия. Можно согласиться с тем, что приговор поколению Печорина, оглашенный лермонтовской «Думой», имеет непосредственное отношение к романному образу, к образу представителя русской дворянской интеллигенции, на каком-то этапе истории исчерпавшей свои духовные силы в изнурительной борьбе с самой собой.
Следы этой борьбы читатель находит в «Журнале Печорина». Но эта часть романа есть лишь подтверждение исчерпанности духовного «Я» героя. Это очевидно по его байроническим исповедям – фактическому свидетельству изжитости этой модели как в жизни, так и в литературе.
Интересное наблюдение сделал в свое время В. Турбин, сопоставляя признания героя бестселлера Ф. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и монологи Печорина в «Герое нашего времени». «Критика бездушия русской аристократии входила в идеологическую концепцию Булгарина: «Но душа моя создана для деятельности, для сильных ощущений, а светская жизнь есть не поприще для деятельности, а только беспокойный сон… Сердце мое чего-то жаждало; я искал наслаждений и не находил… Но я не хотел ни быть рабом скоропреходящих женских прихотей, ни обманывать женитьбою…» — изливается Выжигин. «… Рабом я быть не могу, а повелевать… — труд утомительный…» – рассуждает Печорин. И еще: «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь?» И далее у Турбина: «Излияния о пошлости светского общества, жалобы на его бесплодность – ими полон роман, который Лермонтов нескрываемо ненавидел. «Находясь в беспрерывном рассеянии в большом свете, я искал еще рассеяния! Но у нас, для светского человека, нет середины между скукою и развратом. Науки, искусства, художества только распускаются, и много, когда цветут в большом свете, и никогда не приносят плодов зрелых, могущих питать душу, дремлющую в бездействии». Да нет, не Печорин все это написал! И не с лермонтовской «Думы» все это списано – про плоды, которые не созревают, и про душу, дремлющую в бездействии. А у Выжигина все это найдено и зло спародировано.
«Я … сказал, приняв глубоко тронутый вид…», «Я… принимаю смиренный вид…», «Я … принял серьезный вид», — то и дело признается Печорин. Много «видов» он принимает: и серьезный, и тронутый, и смиренный. И вид меланхолически сурового обличителя светской жизни и нравов тоже…
… Так кто же убил Грушницкого?
Грушницкого убил некто, носивший маску Выжигина»[18]
Маски героя не дают пробиться к его лицу, если таковое и имеется. Становится ясно, что перед читателем не человек и даже, может быть, не духовный мертвец, а некая мировоззренческая абстракция, усиленная стараниями ее носителей.
Кстати, у Печорина в романе масса двойников: Вернер, Грушницкий, Вулич. Все они в той или иной мере воплощают его жизненную программу. Печорин и воспринимает их как свое продолжение. Он выносит им свои определения, не предполагая, что они могут выходить за их рамки. А они нарушают эти границы, превращаясь в живых людей, судьбами которых пытается жонглировать герой-мистификация.
«Княжна Мери» заканчивается еще одной мистификацией в байроническом духе: «Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига, его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце…»[19] и т.д. Этот монолог толкуется в литературоведении как утверждение мятежного духа Печорина, сродного героя лермонтовских поэм, его лирическому герою (в «Парусе», например).
Та романтическая модель поведения, которую разыгрывает Печорин, действительно имела отношение к лирике Лермонтова, и в лирическом монологе она соответствует своему романтическому пафосу. Но в полифонии романа, в пересечении и взаимодействии голосов многообразной жизни этот пафос пародийно снижается. Бесплодность печоринской игры проглядывает в убожестве тех сюжетных схем, которые он разыгрывает. Другое дело, какие жертвы они порождают в жизни. Кроме этой игры, других целей у Печорина нет. Он вампирически произрастает в этой игре, используя живых людей в качестве ее невольных участников.
Окончательное разоблачение демонического вампиризма и всего комплекса его этико-философских толкований происходит в новелле «Фаталист». Романтическое событие новеллы вырастает из прозы быта, как это вообще присуще роману Лермонтова. Существует описание места, которое в «Фаталисте» стало прообразом казачьей станицы. В годы Кавказской войны, как и все линейные станицы, она представляла укрепленный пункт, окопанный рвом, обнесенный земляным валом и плетеным тыном. Червленная занимала пространство прямоугольника, в длину около двух верст и в ширину около версты. Жизнь станицы была до крайности сжата и скучена. В ней умещалось все домашнее и полевое хозяйство казака. К ночи люди спешили в станицу. Ворота, а их было пять, наглухо запирались, возле ставили охрану, на сторожевую вышку поднимались казаки, а на Тереке располагались секреты.
В этой среде является двойник Печорина – Вулич, очерченный однотонной романтической краской. В этой же среде происходит совершенно чуждая ей философская дискуссия на мистическую тему о предопределении, во многом спровоцированная скукой кавказской службы.
Автор открыто иронизирует над своим героем. Он заставляет его пофилософствовать, обратившись к небу и звездам, чтобы тот споткнулся о свинью, погубленную казацкой шашкой. Достаточно соизмерить дистанцию между романтическими испытаниями на тему фатума и разрубленной надвое свиньей, чтобы увидеть меру снижающей иронии автора. Не нужно забывать к тому же, что перед этим той же шашкою был зарублен и демонический Вулич, срифмовавшись таким образом с нечистым животным.
Финал новеллы, а он оказывается и финалом всего романа, выглядит сокрушительным приговором определенной части русской дворянской интеллигенции, оказавшейся к середине Х1Х века в своеобразном мировоззренческом тупике. И «приговор» этот произносит не автор, далекий от каких-либо завершающих определений по отношению к своим героям, а произносит его, сам того не подозревая, простодушный Максим Максимыч.
«Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему я был свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, внимательно покачав головою:
— Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем, признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, — того и гляди, нос обожжешь… Зато уж шашечки у них – просто мое почтение!
Потом он промолвил, несколько подумав:
— Да, жаль беднягу… черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уже так у него на роду было написано!..
Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений»[20]
Напомним, однако, о чем рассказал простодушному штабс-капитану Печорин, вернувшись из станицы в крепость. А рассказал он о том, как интеллигентные русские офицеры, «наскучив бостоном и бросив карты под стол», стали рассуждать – от скуки опять же – о том, «что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между христианами многих поклонников». И, наконец, когда спор зашел в тупик некто поручик Вулич, серб и страстный игрок, предложил на деле проверить тезис о предопределении. Он приложил себе дуло пистолета к виску и нажал курок, произошла осечка. Между тем вездесущий Печорин обнаружил на его лице следы смерти, о чем и сообщил храброму поручику. И действительно, через некоторое время его, возвращающегося с этой занимательной офицерской вечеринки, зарубил пьяный казак. А самого казака удачно пленил, также решивший испытать судьбу, Печорин. Но перед этим, возвращаясь в крепость и размышляя под впечатлением споров на офицерской сходке, Печорин фактически констатирует абсолютное безверие, свое собственное и своего поколения, – и уже в который раз. И делает это как всегда с олимпийским спокойствием духовного мертвеца.
«…Мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права… …Какую силу предавала им уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми, или с судьбою…»[21] И тут Печорин наткнулся на зарезанную свинью… Таков авторский комментарий к печоринскому тезису о собственном равнодушном безверии, обрекающем героя на действительное духовное бесплодие – именно в мировоззренческом смысле.
Максим Максимыч не понимает ни философских тонкостей офицерского спора, ни, тем более, практических из него выводов в виде игры в русскую рулетку. Он не понимает ничего этого, поскольку описанное событие, действительно лишено какого-либо насущного или метафизического смысла, а есть лишь результат забав одуревших от скуки, в условиях кавказской службы, дворян-офицеров. Единственно разумное здесь то, что Максим Максимыч по-христиански пожалел Вулича: «Да, жаль беднягу…» И эта жалость, высказанная в адрес печоринского двойника, имеет отношение прежде всего, может быть, к самому Печорину, так бездарно растрачивающему время своего земного существования.
В этой связи мы еще раз должны указать на ту катастрофически непреодолимую дистанцию, которая отделяет мировоззрение дворянского интеллигента Печорина и подобных ему представителей поколения дворян 1840-х годов от добросовестного служаки Максима Максимыча, являющего собою тип народного миросознания, безропотно принимающего любые условия существования, мало культурного, мало развитого, но обладающего при этом некой естественной правдой простодушного существа, что и позволяет ему почти бессознательно выбирать в жизни нравственный ориентир.
Также отметим и ту очевидную разницу, которая видна при сопоставлении позиций Лермонтова и Пушкина в его «Метели», в которой также речь идет о роке, судьбе, но нет и тени ироничного отношения и уже тем более снижающего авторского движения.
В заключение наших рассуждений о том, какие черты русского мировоззрения и миросознания находят отражение в романе Лермонтова, попробуем конкретизировать и мировоззренческую позицию автора. Два предисловия к роману заставляет двоиться его образ. Оба они объясняют даже не кто таков Печорин, сколько — кто таков Герой Нашего Времени. Повествователь, высказывая свое представление о характере Печорина, ссылается на название произведения. «Да это злая ирония!» скажут… — Не знаю». Автор же дает более решительную трактовку: «… портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажите, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..
… Автору «просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал»[22]
Если довериться этому Предисловию, которое В. Набоков, например, считает «искусной мистификацией», то Печорин не что иное, как воплощенное вселенское Зло, злодей, сродни романтическим. С этой точки зрения, он, конечно, чистейший вымысел. Или, по Набокову, «продукт нескольких поколений, в том числе нерусских; очередное порождение вымысла, восходящего к целой галерее вымышленных героев, склонных к рефлексии, начиная от Сен-Пре, любовника Юлии д,Этнаж в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и Вертера, воздыхателя Шарлотты С. в повести Гете «Страдания молодого Вертера»(1774)… и кончая «Евгением Онегиным» Пушкина, а также разнообразной, хотя и более легковесной продукцией французских романистов первой половины того же столетия… Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, взращенному на другой почве, однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении свободомыслия со стороны тиранического режима Николая 1 (1825-1856) помогли нам его распробовать».[23]
К тому моменту, когда Печорин возник на страницах лермонтовского романа, этот литературный тип уже вполне сложился не только в зарубежной, но и в русской романтической словесности. В 1799 — 1803 Н. М. Карамзин приступает к созданию «Рыцаря нашего времени». «Княжне Мери» непосредственно предшествуют так называемые «светские повести» 1830-х годов Н.Ф. Павлова, В.Ф. Одоевского, О.М. Сомова, В. А. Соллогуба. Героя, близкого Печорину, находим и в повестях М.П. Погодина «Адель», А. Теплякова «Человек не совсем обыкновенный», Н. Станкевича «Несколько мгновений из жизни графа Z ***». В 1830-е годы А.А. Бестужев-Марлинский все настойчивее обращается к образу рефлектирующего человека («Мулла-Кур», «Вадимов», «Он был убит»). Да и романтические произведения самого Лермонтова держатся на демонических странствиях этого типа.
Вот почему Автору «Героя» впору было удивиться, отчего так настороженно публика взглянула на привычного героя. А дело, вероятно, было в том, что герой оказался вынутым из своей романтически приподнятой среды и перенесен в среду вполне прозаическую, в поток неприукрашенной жизни, где «демонизм» героя проявил свою искусственность, «умственность», так сказать.
Печорин предстал здесь, со всей очевидностью, «умственной» абстракцией, с одной стороны, а с другой, — отработанным в литературе и в обществе типом поведения. Печорин – это прежде всего идея сверхчеловека, рожденного в воображении Лермонтова, и пущенная в романное испытательное странствие. Эта идея, по самой своей природе, лишена социально-исторической конкретности, бездомна и неприкаянна.
Эксперимент с идеей сверхчеловека в условия российской действительности – вот что, собственно, и является сюжетом «Героя нашего времени». В чем же суть идеи? На эту тему интересно высказался в свое время И. Виноградов в статье «Философский роман М.Ю. Лермонтова».[24]
Литературовед полагает, что гипериндивидуализм Печорина для него самого не тайна. Это последовательная позиция, не чуждая и самому Лермонтову. Точнее, это жизненная программа, идея, отщепленная от своего конкретного носителя и пущенная в романный путь испытаний. Суть программы: «Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы…». На этой идее и строится печоринское лицедейство. Философская основа этой программы заявлена в «Фаталисте». Она вырастает из размышлений о первоосновах человеческих убеждений: предопределено ли высшей божественной волей назначение человека и нравственные законы его жизни или человек, своим свободным разумом, свободной своей волей определяет их и следует им.
Виноградов полагает, что в разрешении этой проблемы Печорин склонен идти скорее путями атеистического сознания или, во всяком случае такого, которое не признает вмешательства высшей воли в дела человеческие и оставляет вопрос о Боге открытым, не имеющим значения для остальных вопросов человеческой жизни. Ироническое отношение Печорина к философии «людей премудрых» прямо связано у него с утверждением права человека на самостоятельность решений. Он называет «колею» предков «опасной», он видит, что она отнимает у него свободу воли, и предпочитает решительность характера, основанную на праве человека «сомневаться во всем». Он сознает в себе единственного творца своей судьбы и потому-то дорожит своей свободой как высшей ценностью: «Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою… поставлю на карту… но свободы моей не предам».
В то же время, отбрасывая веру в высшие силы, Печорин не в состоянии и противопоставить ей какой-либо иной позитивный нравственный принцип. Остается единственный вывод: раз так, раз уж необходимость добра представляется в высшей степени проблематичной, если не просто призрачной, то почему бы и не встать на ту точку зрения, что и в самом деле – «все позволено»? Остается принять именно собственное «Я» в качестве единственного мерила всех ценностей, единственного бога, которому стоит служить и который становится тем самым по ту сторону добра и зла. Таким образом, истоки не столько печоринской, сколько лермонтовской жизненной программы заключаются в безверии.
Не в применении к Печорину, а в применении к Лермонтову можно сказать, что путь к этой идее совершался в результате глубоких и мучительных мировоззренческих исканий – как прямое их следствие, через них и благодаря им. Это крест именно лермонтовской души, ее гнетущая ноша. В Печорине же это мировоззрение проходит художественное испытание в контакте и конфликте с жизнью, воспроизведенной романным сюжетом. Об итогах этих испытаний мы уже говорили выше.
Было бы нелепо считать, что у Печорина отсутствует жизненная цель. Цель и смысл идеи в самой идее, и поверяется она в доведении ее воплощением до предела. Испытание идеи в жизни – дело всей жизни. Лермонтов делает опыт, сокращая этот путь – в романе, который превращается в «хождение идеи по мукам», к чему, позднее, придет и Достоевский, и что уже предстало в пародийном ключе в «Пиковой даме» А.С. Пушкина.
Лермонтовская, выстраданная писателем идея сверхчеловека в облике Печорина выключена из мудрого жизненного цикла уже как бы в самих истоках бытия. Идея абсолютного зла, беспредельного насилия над жизнью всецело исчерпывается смертью. Образно говоря, Печорин далеко не Иван-царевич в этом испытательном сюжете, а скорее, Кощей Бессмертный. Он и притягивает читателя своей демонической «бессмертной» (внежизненной) недосягаемостью для живого.
Интересно, что по отношению к женским персонажам романа Печорин и проявляет себя как сказочный Кощей. Печорин похищает женщин у жизни, так сказать, поскольку плодоносящая любовь и есть, в сущности, предельное испытание сверхчеловеческой идеи Зла, насыщаемой и никогда не насытимой любовью.
Итак, Печорин, может быть, первый в истории русской литературы абсолютный «идееноситель», то есть герой реалистического романа, роль которого исчерпывается демонстрацией той или иной фундаментальной идеи, отчего и движение Печорина в сюжете оказывается в итоге бесплодным.
Переоценка положительных идей в первой трети ХIХ века привела к уклонению в сторону идеи отрицания, которой был болен Лермонтов. Вернемся на миг к герценовской статье «Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года», где он, один из признанных отечественных идеологов, характеризуя природу и эволюцию мировоззрения Лермонтова в контексте времени, по сути, пересказывает роман «Герой нашего времени». Для Герцена идея переустройства жизни гораздо, может быть, более значима, чем сама вялотекущая жизнь. Для Александра Ивановича жизнь вне идеи воспринимается, скорее, как отсутствие жизни, из чего, собственно, и выводится драма Лермонтова.
Такого рода представления идеолога по призванию и становятся в романе Лермонтова объектом неизбежного снижения и, если хотите, непредумышленного развенчания со стороны изображенной в «Герое нашего времени» реальной жизни, особенно той, в которую погружены персонажи на Кавказе. И здесь, строго говоря, не имеет значения само содержание идеи, которой обременен герой, поскольку любая идея противостоит свободному развитию жизни, пытаясь заключить ее в свои рамки, а людей сделать персонажами своих воплощений.
Легко заметить, что философско-этические рассуждения Печорина гораздо более значительны, нежели его поступки. В практике своего существования он то и дело прибегает ко вполне расхожим литературным моделям поведения, искусственность которых быстро обнаруживается в естественном течении жизни. Пустота его забав и породила литературоведческий миф, особенно популярный в советское время, о том, что мощная печоринская натура, в силу условий Николаевской эпохи, вынуждена отдавать свои силы мелочам жизни.
Но что в повседневном течении жизни есть, кроме «мелочей», из которых и складываются крупные события. Эти «мелочи» в своей бесчисленности составляют единый неделимый поток бытия, которого как раз и страшится Печорин, не принимая и не понимая «мелочей». Но поскольку иной жизни нет и быть не может, последовательное и полное осуществление любой идеи невозможно без принесения кого-то в жертву — самого героя или его человеческого окружения.
В сюжете романа идея остается идеей и растворяется в потоке мелочей без остатка вместе с ее носителем, испаряющимся где-то на дорогах жизни. Таков романный итог. И тут Лермонтов как писатель-реалист оказался вполне последовательным учеником А.С. Пушкина. На уровне героя его спор с Пушкиным закончился тем, что герой-идеолог сознательно, в отличие от Онегина, отделяет себя от жизни и противопоставляет ей как холодную идею, а значит, становится действительно лишним в жизни и опрокидывается в смерть. В этом смысле он реальный предтеча (вместе с пушкинским Германном) героя идеологического, по выражению М.М. Бахтина, романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Для самого Лермонтова эксперимент, перенесенный в реальную жизнь, оказался значительно более трагичным, нежели для его героя. Провоцируя прозу жизни идеей сверхчеловека, он, в конечном счете, наткнулся на пулю своего, гораздо более удачливого Грушницкого. И как раз потому, что ему, как истинно живому человеку, не хватило мировоззренческой последовательности мертвеца Печорина.
В поэзии и прозе М.Ю. Лермонтова, конечно, нет собственно русского земледельческого мировоззрения. Но все же проявляющееся и время от времени дающее о себе знать мировоззрение его героев – это мировоззрение детей русских помещиков или самих завтрашних помещиков, которые сегодня всего лишь поставлены в новые для себя обстоятельства. Более того: благодаря лермонтовскому рефлектирующему герою, нам открываются их, детей русских земледельцев, истинные смыслы, цели и ценности. А знать – как представители русского народа соотносят себя с другими, в том числе, выступая в роли завоевателей, является существенным дополнением к представлениям о русском мировоззрении, в том числе – и мировоззрении русского земледельца.
[1] Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. М, АН СССР, 1954. Т. У11, с. 224-226
[2] Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., Советский писатель, 1991, с. 380.
[3] Там же, с. 415.
[4] Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. М., Художественная литература, 1978. Т.3, с. 238.
[5] Там же, с. 239.
[6] Там же, с. 251.
[7] Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. М.-Л., ГИХЛ, 1948. Т.4, с. 191-192.
[8] Там же, с. 12.
[9] Там же, с. 30.
[10] Лермонтов М. Ю. Там же, сс. 37 — 38.
[11] Лермонтов М.Ю. Там же, с.56.
[12] Лермонтов М.Ю. Там же, с.65.
[13] Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. М., Правда, 1981. Т. 5, с. 65.
[14] Впрочем, слабое ее проявление все же наблюдается у Грушницкого в последнюю минуту перед смертью. В ответ на лживые доводы капитана он произносит: «Оставь их! …Ведь ты сам знаешь, что они правы». Впрочем, это проявление совести не подвигает Грушницкого к раскаянию – покаянию.
[15] Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в четырех томах. М., Художественная литература, 1965. Т., 4, с. 113.
[16] Лермонтов М.Ю. Там же, сс. 137 – 140.
[17] Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1948. Т. 4, с. 33.
[18] Турбин В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров. – М., Просвещение, 1978, сс. 198 — 199.
[19] Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. Т.4. сс. 142 — 143.
[20] Лермонтов М.Ю. Там же, с. 152.
[21] Лермонтов М.Ю. Там же, с. 148.
[22] Лермонтов М.Ю. Там же, с.8
[23] Набоков Владимир. Предисловие к «Герою нашего времени». – «Новый мир», 1988, № 4, с. 194.
[24] См.: Русская классическая литература: Разборы и анализы. М., Просвещение, 1969.
Сопереживание и сотворчество (диалектика и взаимообусловленность)
Блок В.Б.
Социальная эффективность художественного творчества, воздействие искусства и литературы на формирование характера человека, на его мировоззрение, жизненные установки, сущностные особенности художественного восприятия — проблема как искусствоведческая, так и психологическая. На протяжении длительного времени научная мысль не без успеха вела наблюдения над человеческим восприятием вообще и художественным в частности, находила некоторые важные их закономерности. Нередко делались верные прогнозы даже о характере воздействия того или иного художественного произведения, его месте в культурной и шире — общественной жизни. Одна из опасностей на этом тернистом пути — соблазнительная доверчивость к результатам модных ныне социологического и культурологического анкетирования, весьма уязвимого зачастую с позиций искусствознания и психологии. Как показывает историческая практика, сама по себе широкая распространенность тех или иных художественных (и квазихудожественных) запросов не отражает подлинного уровня влияния произведений литературы и искусства на общественное сознание.
Опубликование в 1965 г. «Психологии искусства» Л.С. Выготского потому более всего стало сенсацией в образованных кругах нашего общества, что показало великолепную возможность находить закономерности, общие для воздействия художественных произведений, непосредственно в их структуре. Но этого мало. Ученый обосновал художественно-психологическую реакцию как процесс сложносоставной и непременно внутренне противоречивый на всем протяжении восприятия произведения, а не только в завершающем взрыве, известном под аристотелевским наименованием «катарсис». Открытие это, сделанное в середине двадцатых годов, не находило последовательного развития в литературоведческих и искусствоведческих трудах, не нашло, думается, надлежащей оценки и у многих психологов.
Почему?
Потому, очевидно, что найди тогда и в дальнейшем открытие Выготского свое развитие и развернутую аргументацию, оно неминуемо вступило бы в конфликт с крепнущими в ту пору догмами, исходными для методологии художественно-критических приговоров. Они требовали в соответствии с тезисом о перманентном обострении классовой борьбы в социалистической стране и в мире понимания противоположностей как сил, жаждущих кровавого уничтожения друг друга. Затушевывалась, а то на практике и вовсе игнорировалась борьба противоположностей как непреложное условие развития, как органика естественного существования. Противоречие как непременное свойство художественных воздействия и восприятия в этих условиях могло предстать лишь в изрядно деформированном и вульгаризованном виде.
Противоречивость как живую характеристику художественного восприятия Выготский зафиксировал в процессе «противочувствования» («противочувствия»). Оно вызывается во всех литературных произведениях, начиная с простейшей басни и заканчивая сложнейшим «Гамлетом», по Выготскому, борьбой, противоречием между фабулой и сюжетом. Оно дразнит, тормошит и направляет чувство читателя, побуждает его с нарастающим душевным напряжением усваивать прочитанное (или увиденное в театре) одновременно в двух противоположных планах — поверхностном и глубинном, причем источник эмоционального напряжения редко осознается. Ясно видно лишь волнение, вызываемое явными стычками героев, тем, что ученый с легким пренебрежением называл «обыкновенной драматической борьбой», которая в театре затемняет суть содержания пьесы, того самого, что унесет с собой в жизнь эмоциональная память зрителя. Заметим, что неосознанность или неполная осознанность первопричины драматических впечатлений читателя и зрителя — один из основных постулатов концепции Выготского. Нетрудно догадаться, что столь же плохо поддается фиксации подлинное, а не пригодное для стереотипных умозаключений последействие художественного восприятия. Все эти выводы могли бы, будь они опубликованы в свое время, чинить изрядные неудобства для той простейшей методологии художественного анализа, который начинался и кончался вопросом «Кто кого?».
Между тем, Выготский дал ключ к эстетико-психологическому исследованию, раскрыв понимание художественной гармонии не как ласкающей взор и слух идиллической гладкописи и не как живописного изображения поединков положительного с отрицательным согласно тем или иным идеальным представлениям. По Выготскому, достойная художественная структура насквозь конфликтна и тем замечательна, что соответствует человеческим потребностям в искусстве как сильном и властном возбудителе глубоких, эмоционально окрашенных творческих процессов.
Важнейшее вдохновляющее противоречие, общее для всех искусств, вызывает животворную раздвоенность впечатлений: мы видим в художественном произведении отраженную и выраженную в нем жизнь и в то же самое время отлично понимаем (хотя бы на отдаленном плане сознания), что перед нами произведение искусства, оцениваемое согласно его собственным критериям. Пусть эти критерии историчны, изменчивы, корректируются личными и групповыми пристрастиями и вкусами, но они относительно устойчивы в данный момент, в данном сообществе, обладающем определенной степенью культуры.
Парадокс целостности художественного впечатления непременно предусматривает его динамичную противоречивость: необходимо доверительное эмоциональное соотнесение прочитанного, увиденного, услышанного со своим жизненным опытом, со своим сегодняшним душевным состоянием и вместе с тем необходима увлекательная отстраненность от прочитанного, увиденного, услышанного как отображения жизни, приподнятое настроение от встречи с искусством как таковым. В комплексе художественного впечатления одна его противоположность стимулирует другую. Восхищаясь мастерством художника, читатель, зритель, слушатель интенсивнее ассоциирует созданные образы со своими жизненными наблюдениями, идеальными устремлениями, потребностями. Этот процесс, в свою очередь, поддерживает эстетический интерес к воспринимаемому.
Различные направления в искусстве, каждое по-своему, эмпирически или согласно продуманной программе используют диалектику художественного восприятия, усиливая то одну, то другую его противоположность. Впрочем, как мы попытаемся доказать, и каждая из них, в свою очередь, должна анализироваться диалектически, так как содержит свои неминуемые противоречия, приобретающие наибольшую очевидность, когда рассматривается в единой системе с духовными потребностями реципиентов. Понятно, что при таком анализе неизбежна некоторая схематизация взаимосвязей, обычно сопровождающая попытки выделить какие-либо закономерности функционирования искусства, нелегко поддающиеся объективации из-за своей изменчивости.
Уже кажется общепринятым в рассуждения о художественном восприятии включать такие известные понятия, как «сопереживание» и «сотворчество». Нередко они употребляются почти как синонимы или одно вслед за другим без расшифровки, что, собственно говоря, имеется в виду, дополняют ли они друг друга бесконфликтно или находятся в противоречии между собой? Когда эти термины встречаются в статьях или рецензиях, читатели, наверно, не вдумываются в смысл примелькавшихся понятий, их собственные свойства как бы стираются.
Между тем «сопереживание» и «сотворчество», на наш взгляд, входят в художественное восприятие как его ведущие компоненты, они вызываются произведениями искусства как стимуляторы активности сложных психических процессов. Сопереживание и сотворчество практически неразъединимы, нередко они взаимно проникают друг в друга, и все же это разные процессы, представляющие собой противоположные динамичные образования.
Можно не сомневаться, что степень активности сопереживания и сотворчества — это и есть мера эффективности воздействия художественного произведения. Однако это утверждение требует разъяснений.
Сопереживание выражает специфически эмоциональное отношение к героям романа, повести, рассказа, стихов, драматического, оперного, балетного спектакля, кино- и телефильма, произведений изобразительного искусства и т.п. и подразумевает разные градации сочувствия их героям, сопряженного часто с взволнованным со-раздумьем. Сопереживание обусловлено личностным восприятием героев художественных произведений и характеризуется, в частности, опережающим изображенные события собственным стремлением предугадать принимаемые героями ответственные решения, совершаемые поступки.
Необходимым условием доподлинности сопереживания должна быть вера читателя* в правду им воспринимаемого, по крайней мере — в правду возможного. (* Здесь и в дальнейшем автор позволяет себе объяснить понятия «читатель», «зритель», «слушатель» в едином — «читатель», подразумевая, что в любом произведении искусства имеется «художественный текст», признанный многими учеными в качестве объединительного термина.) Конечно, искусство по-своему «обманывает», оно умеет выдавать за жизненную правду правду художественную, т.е. преобразованную, условно говоря, «по законам красоты», которые помогают внушению этой веры, но читатель и сам обманываться рад, он по-своему распознает жизненную реальность в образах искусства.
Говоря о сопереживании, нельзя не вспомнить о так называемом «вчувствовании» и близкой этому понятию «эмпатии». И то, и другое зиждется на давно замеченном человеческом свойстве намеренно или непроизвольно ставить себя как бы на место другого (особенно если к нему испытывается симпатия или, наоборот, заинтересованная антипатия), мысленно перевоплощаться в этого другого с помощью воображения.
Видный американский психолог К. Роджерс, характеризуя «эмпатический способ общения с другой личностью», пишет, что «он подразумевает вхождение в личный мир другого и пребывание в нем «как дома». Он включает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого — к страху, или гневу, или растроганности, или стеснению, одним словом, ко всему, что испытывает он или она. Это означает временную жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и осуждения… Это включает сообщение ваших впечатлений о внутреннем мире другого, когда вы смотрите свежим и спокойным взглядом на те его элементы, которые волнуют или пугают вашего собеседника…».
Значит, полного слияния не происходит? Вы сохраняете полное присутствие духа, когда ваш собеседник его теряет?
Нет, К. Роджерс так не думает и… противоречит сам себе. Он пишет далее: «Быть с другим таким способом означает на некоторое время оставить в стороне свои точки зрения и ценности, чтобы войти в мир другого без предвзятости. В некотором смысле это означает, что вы оставляете в стороне свое «я». (Это «в некотором смысле» отчасти снимает противоречие. — В.Б.). Это могут осуществить только люди, чувствующие себя достаточно безопасно в определенном смысле: они знают, что не потеряют себя порой в странном и причудливом мире другого и что смогут успешно вернуться в свой мир, когда захотят… Быть эмпатичным трудно. Это означает быть ответственным, активным, сильным и в то же время — тонким и чутким».
Искусство, привлекая к себе возможностью увлекательно пережить аналогичный процесс, снимает с читателя ответственность за того или за тех, в чьи личные миры он бесстрашно входит, помогает ему талантом художника быть и тонким, и чутким. Безопасное эстетизированное сопереживание придает читателю активность и силу, которыми он в жизни, быть может, не обладает, а сотворчество — стимулирует конструктивное воображение и уже тем самым держит читателя на позиции отстранения, не дает покинуть самого себя.
Литература и искусство, даруя человеку радость эмпатии без ее обременительности, обогащает его собственный внутренний мир открытостью доверительного общения с личностями, наделенными драматическими судьбами. Спровоцированная искусством необходимая эмпатии активность из-за невозможности влиять на исход изображаемого (в рассказе, спектакле, фильме, на картине, по-своему в музыке) обращается как бы внутрь самого читателя. Бездеятельность, вынужденная и по-своему драматичная, усиливает ощущение эстетизированности героя, придает ему как бы надбытовые черты, сближая испытываемое при этом чувство в некоторых случаях с религиозным.
Тут нужно существенно дополнить наблюдения К. Роджерса. Как доказано К.С. Станиславским и вслед за ним некоторыми учеными, человек не может перевоплотиться в образ другого, полностью отказавшись от самого себя, от своих свойств и качеств.
Хотя человеку органически свойственно повседневное мысленное перевоплощение как в образы действительности, так и в образы, возникающие в личной фантазии каждого, он не свободен в этих процессах. Они зависят от социально обусловленных жизненных установок субъекта, т.е. от его неосознанных потребностей, определяющих предуготованность к действию (в данном случае к эмпатии), и от его отношения к объекту перевоплощения, подсказывающего избирательное, часто интуитивное постижение его характера, его индивидуальности. Такое отношение само по себе придает эмоциональную окраску эмпатии, вводит в нее субъективную оценку и самого объекта, и характера проходимой мысленной, воображаемой акции.
Эмоциональная насыщенность эмпатии в процессе сопереживания героям художественных произведений специфична. Польский психолог Я. Рейковский, отмечая большое воздействие эмоций на познавательные процессы, на восприятие, память и т.д., отмечает, что «особенно отчетливое влияние оказывают эмоции на ассоциативные процессы, воображение и фантазии».
Вызванное художественным образом стремление к эмпатии (всегда свойственное человеку и по его коммуникативной потребности) стимулирует эмоциональную напряженность дальнейшего восприятия, а через него необходимое для всех разновидностей вчувствования воображение, а также ассоциации с возникающими в эмоциональной памяти прошлыми жизненными впечатлениями, с событиями внутренней психической жизни, как осознанными, так и неосознаваемыми. Все это, в свою очередь, повышает эмоциональный накал сопереживания, придает ему дополнительные стимулы.
Активность сопереживания еще и потому приносит при встречах с искусством удовлетворение, что потребность в эмпатии естественна у каждого, причем ее реализация за счет общения, хотя бы иллюзорного, с людьми особенно интересными, переживающими особые судьбы, найденные искусством, приобретает для реципиентов значение по-своему исключительное.
Ф.В. Бассин, В.С. Ротенберг и И.Н. Смирнов пишут, что «эмпатически ориентированные воздействия отвечают какой-то глубокой потребности индивида, способствуют удовлетворению этой потребности, которая может индивидом сознаваться ясно, осознаваться смутно и даже, отнюдь не теряя из-за этого своей остроты и настоятельности, не осознаваться вовсе».
Между тем, по мнению ученых, научное исследование этой психологической, культурно-исторической и социальной проблемы вряд ли можно считать хотя бы только начатым. Они спрашивают, в частности: «Хорошо ли мы … понимаем причины, порождающие эту неудержимую потребность в эмпатии, в сочувственном сопереживании с другим человеком того, что нас тяготит и тревожит?». И отвечают, что долгое время нераспознанное академической психологией отражено великими мастерами художественного слова «в образах, творимых ими на основе интуитивного постижения правды окружающего их мира», приводят примеры из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, «Анны Карениной» Л.Н. Толстого.
Но отраженное в искусстве объясняет и один из главных стимулов всеобщего тяготения к самому искусству, возможности его воздействия, зависимого, впрочем, не только от стремления к эмпатии. Специфика художественного восприятия многопланова.
Степень постижения художественного образа детерминирована способностью читателя вникнуть в «подтекст» произведения, т.е. во внутренние слои, глубинные уровни художественного содержания.
«Художественное произведение, — пишет психолог А.Р. Лурия, — допускает различной степени глубины прочтения; можно прочитать художественное произведение поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы или повествование об определенном внешнем событии; а можно выделить скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение с еще более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или общий смысл, но анализируя те мотивы, которые стоят за действиями того или иного лица, фигурирующего в пьесе или в художественном тексте, или даже мотивы, побудившие автора писать данное произведение.
Характерно, что «глубина прочтения текста» не зависит от широты знаний или степени образования человека. Она не обязательно коррелирует с логическим анализом поверхностной системы значений, а больше зависит от эмоциональной тонкости человека, чем от его формального интеллекта. Мы можем встретить людей, которые с большой полнотой и ясностью понимая логическую структуру внешнего текста и анализируя его значение, почти не воспринимают того смысла, который стоит за этими значениями, не понимают подтекста и мотива, оставаясь только в пределах анализа внешних логических значений».
Такое поверхностное восприятие искусства, однако, очень удобно для различных идеологических спекуляций, и в конечном счете для своеобразной уравниловки, которая не только ставит в одно и то же положение талант и посредственность, но даже отдает предпочтение этой последней, поскольку она проще для уяснения «логической структуры внешнего текста», охотнее откликается на конъюнктурные требования, не имеющие отношения к реальному идейно-эстетическому воспитанию.
А.Р. Лурия отмечал далее: «Эта способность оценивать внутренний подтекст представляет собой совершенно особую сторону психической деятельности, которая может совершенно не коррелировать со способностью к логическому мышлению. Эти обе системы — система логических операций при познавательной деятельности и система оценок эмоционального значения или глубокого смысла текста — являются совсем различными психологическими системами. К сожалению, эти различия еще недостаточно исследованы в психологической науке и ими больше занимаются в литературоведении и в теории и практике подготовки актера. О них, в частности, писали в своих работах К.С. Станиславский (1951, 1956), М.О. Кнебель (1970) и др.».
Разумеется, было бы неверно полагать названные две системы изолированными друг от друга. Может быть, психолог слишком доверился соблазну обобщения некоторых достижений школы сценического психологизма в сфере так называемого «перевоплощения актера в образ на основе переживания» и недооценил значение разума в конструктивном воображении, которое равно принадлежит и сознанию, и бессознательному психическому. Нам уже доводилось доказывать с привлечением данных современной психологии, что перевоплощение актера в образ и, прибавим, эмпатия при художественном восприятии возникают на основе воображения или, по крайней мере, с его доминирующим участием, поскольку даже «переживание» актера в образе, во-первых, диалектично, включает в себя самоконтроль, а во-вторых, следовательно, это переживание не тождественно жизненному, а является производным от воображения, от того, насколько действенным и продуктивным окажется для актера, по выражению К.С. Станиславского, «магическое «если бы»».
Понятно, сопереживание читателя многим отличается от перевоплощения актера, прежде всего потому, что никак не выражается в конкретных активных поступках. Как бы глубоко ни охватило оно в театре чувства зрителя, он не бросается на выручку к герою, страдающему на сцене, и даже не спешит к нему с советом. Тем более странной была бы подобная активность реципиента других искусств. Читатель радуется своему сопереживанию, хотя бы оно по природе своей и было родственно отрицательным эмоциям.
«Для того чтобы объяснить и понять переживание, надо выйти за его пределы, надо на минуту забыть о нем, отвлечься от него», — писал Л.С. Выготский, имея в виду «переживание», которым должен овладеть актер для играемой им роли в спектакле. Тем более требует либо выхода из состояния, близкого жизненному «сопереживанию», либо, быть может, какой-то параллельной, двухплановой психической деятельности сама специфика восприятия искусства.
Как и при актерском перевоплощении, сопереживание — двухсторонний процесс. Читатель в ходе эмпатии любой степени интенсивности не в состоянии «выйти из самого себя», стремясь «на место героя», он только как бы перегруппировывает свои психические свойства, черты характера, запасы эмоциональной памяти, приспосабливая их к своему пониманию объекта сопереживания. Заканчивается ли этот процесс вместе с ходом непосредственного художественного восприятия или получает продолжение в жизни?
Для понимания воспитательного значения искусства это один из кардинальных вопросов. Ответ на него не может быть однозначным, поскольку зависит от многих привходящих обстоятельств. Но предположим, что в избранном нами случае и психологическая установка читателя, и его общая культура, обусловливающая эстетическое чутье, эмоциональную развитость, и сегодняшняя ситуация, зависимая от качества и актуальности содержания произведения, хотя бы и созданного в давние времена, — все это благоприятно для художественного восприятия. В какой мере объект сопереживания станет образцом для подражания, обретет силу прямого воспитательного воздействия?
Сопереживание положительному герою, если его облик и действия импонируют потребностям читателя, зачастую формирует у него осознанное или безотчетное стремление к идентификации с этим героем, которое никогда не удовлетворяется до конца хотя бы потому, что при любой перестройке своего внутреннего мира мы все же никогда не становимся тождественными другому, тем более другому, «сконструированному» по законам искусства.
Это стремление — осознанное или чаще неосознаваемое — остается нередко после того, как непосредственное художественное восприятие заканчивается, включается в его «последействие». Стремление к идентификации приобретает тем большую напряженность, чем более образ героя в ассоциациях читателя смыкается с его представлением о «суперличности», понимаемой как некий идеальный вариант самого себя, как некий воображаемый комплекс высоких критериев для самооценки своих действий и побуждений, рассматриваемых как бы с вершины достигнутого идеала. Само собой разумеется, что критерии эти могут быть во многом субъективными и не отвечать общепринятым требованиям нравственной чистоты и безупречной морали. Известно, что образцами для подражания становятся подчас кино- или эстрадные «звезды» без критического отношения к их репертуару.
Поэтому относительно само понятие «положительный герой», рассматриваемое в ракурсе субъективно-объективного художественного восприятия. Для эффективности воздействия необходимо, чтобы ключевые поступки этого героя так соответствовали потребностям читателя, чтобы, в частности, либо восполняли, либо выражали его неудовлетворенность самим собой, своим положением в обществе либо окружающими обстоятельствами.
«Механизмы сверхсознания обслуживают потребность, — пишут П.В. Симонов и П.М. Ершов, — главенствующую в структуре мотивов данной личности. Творческая активность порождается недостаточностью для субъекта существующей нормы удовлетворения этой потребности. Ситуация непреложно работает на доминирующую потребность, и бессмысленно ждать озарений на базе второстепенного для субъекта мотива».
Художественное восприятие — это безусловно вид творческой активности, а входящее в его состав сопереживание, поскольку оно происходит с большим участием конструктивного воображения, — разновидность той же активности. Среди потребностей человеческих немало таких, которые могут откликаться и без большой эмоциональной затраты на небесталанное произведение искусства, например гедонистическая или коммуникативная. Но для того чтобы впечатление внедрилось, что называется, неизгладимо, превратилось в одно из динамических образований эмоциональной памяти, воздействующих так или иначе на поведение читателя, надо, чтобы оно внедрилось как бы в борьбу главенствующей потребности с потребностями ей противоположными, причем, конечно, «на стороне» этой доминирующей потребности.
Захват впечатлением, имеющим ту или иную суггестивную силу, бессознательной сферы психической деятельности человека — непременное условие воздействия на мотивацию его поступков, исходящую из его потребностей. «Многие потребности, — пишут П.В. Симонов и П.М. Ершов, — не получают адекватного отражения в сознании субъекта, особенно если речь идет о наиболее глубоких, исходных потребностях. Вот почему прямая апелляция к сознанию, настойчивые попытки разъяснить «что такое хорошо и что такое плохо», как правило, остаются удручающе неэффективными. Еще Сократ был поражен алогичностью поведения человека, который знает, что хорошо, а делает то, что плохо. Человек ведет себя асоциально отнюдь не потому, что не ведает, что творит». Далее П.В. Симонов и П.М. Ершов подкрепляют высказанную мысль цитатами из Ф.М. Достоевского и А.А. Ухтомского, но с тем же успехом ее можно было бы развить, привлекая результаты исследований многих современных психологов.
Воздействие художественных произведений на людей тем более ценно, а его результаты именно потому столь трудно уловимы, что оно захватывает не только сознание, а порой и не столько сознание, сколько неосознаваемые сферы психической деятельности, где вершит свое во взаимодействии со сложными «механизмами» потребностей и мотивов, то как бы сливаясь с ними, то включаясь как-то в борьбу между ними, подчас помогая победе той потребности, которой не хватало немногого, чтобы стать доминирующей.
Но, конечно, было бы опрометчиво сводить реальное воздействие искусства только к прямому стимулированию каких-либо духовных потребностей содержанием произведений, еще менее убедительно — к поощрению благородных свойств характеров, хотя и то, и другое отнюдь не исключено. В любом случае, однако, восприятие искусства лишь постольку способно сохраниться как долговременное впечатление той или иной эмоциональной насыщенности, поскольку ответит потребностям реципиента, войдет в динамический контакт с его стремлением к их удовлетворению, непременно специфическому, так как оно происходит в области воображения.
Существенным для характеристики особенностей художественного восприятия является его понимание как необходимости для целостного человека, «человека-системы» с «обратной связью», многосторонне раскрытой видным психологом А. Шерозия. Иными словами, художественное восприятие, осваивая произведение искусства и преломление в нем жизненных наблюдений и переживаний автора, приводит в движение психическую деятельность самого читателя, ее содержательный потенциал и ее процессы. Являясь сложносоставным и объективно-субъективным, оно все же возникает в нерасчлененном виде, что таит в себе особую суггестивную силу, ту самую, которую так часто называют «загадочной» или «тайной».
Многоуровневый комплекс художественного восприятия в некоторых исследованиях поглощает собственно эстетическое в искусстве, «красоту» его произведений, порой до полного ее исчезновения как якобы не столь уж существенную в реальном воздействии на читателя. Нередко собственно эстетическое в искусстве полностью или почти полностью относят к его форме, в то время как о его содержании толкуют, приравнивая его фактически к рациональной интерпретации явлений действительности. Тогда оказывается, что сопереживание, поскольку оно как бы вырывает персонажей-людей или антропоморфизированных животных, пейзажи и т.п. из художественного контекста, соприкасается с красотой только в том плане, что исходит из эстетического идеала или восхищенной оценки положительных начал отображаемого художником (более всего — положительного героя).
Сопереживание как составная часть художественного восприятия, конечно, по-своему соотносится и с эстетическим идеалом, поддерживается или снижается аксиологическим отношением к объекту, возникающим на эмоциональной основе, но этим сопричастность процесса специфике художественного не исчерпывается. Любое проявление эмпатии, по внешним признакам аналогичное жизненному, здесь имеет свои особенности, отличающие ее от вызванной реальными обстоятельствами действительности. А поскольку это так, мы вправе сказать, что это специфическое сопереживание, во многом стимулированное воображением, сродни творчеству, отличному, однако, от творчества создателей художественных произведений. Оно по-своему противоречиво, совмещая в качестве противоположностей хотя бы «чисто» жизненные черты с чертами иного порядка.
В этом плане прежде всего отметим, что это сопереживание никогда не отдается полностью отрицательным эмоциям (хотя без них, конечно, не обходится), так как их фоном неизменно остаются эмоции, вызванные искусством как искусством, а они всегда положительные. Таково первое неизбежное противоречие сопереживания, само по себе вносящее коррективы в обыденные представления о его прямолинейном воздействии на сознание и подсознание читателя, якобы всегда готового усвоить художественное как образец для подражания.
Было бы неверным предполагать, что сопереживание читателя — это эмоции, оторванные от мысли. Обратим внимание на вывод Ф.В. Бассина: «Смысл в отрыве от переживания — это логическая конструкция, а переживание в отрыве от смысла — это скорее физиологическая категория». Тем более применимо это положение к сопереживанию читателя, если только он взволнован подлинным произведением искусства, а не его имитацией. Типическое же сопереживание читателя отнюдь не свободно от мышления, но большей частью мышления не вербализованного, отнюдь не отлитого в законченные и, увы, нередко штампованные фразы.
Еще Л.С. Выготский убедительно и ярко раскрыл целостность внутренней, невербализованной мысли, ее непереводимость во внешнюю. Речь — это расчлененная мысль, перевод ее идиом в понятия, необходимые для человеческого общения во всех сферах деятельности, начиная с трудовой. Поэтому слова, идущие вслед за свернутой внутренней речью, не полностью ее передают сами по себе. «В нашей речи, — писал Л.С. Выготский, — всегда есть скрытый подтекст. Мысль не выражается в слове, а совершается в нем». Мысль предшествует слову, но ее вербализация — это не механический процесс, это не просто «обработка» мысли, а ее пересоздание в новом качестве.
Концепция «подтекста» К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко направлена в конечном итоге на восприятие зрителем звучащей со сцены вербализованной мысли во всей ее глубине, на восприятие через сопереживание, включающее в себя и со-раздумье.
«Подтекст», взятый великими режиссерами из жизни искусства, психологами возвращен в жизнь для научного своего объяснения и получил расширительное толкование. Нам же сейчас важно подчеркнуть, что сораздумье в ходе художественного восприятия не заменяет собственную мысль читателя и не глушит ее, и она, оставаясь в свернутом, невербализованном виде, тем не менее активно функционирует, влияет на характер и степень эмоциональной раскованности сопереживания.
Обогащенные этими сведениями из научной психологии, попробуем применить их к пониманию характера сопереживания — скажем так: неположительным героям. В этом плане показательны произведения разных искусств.
Когда люди смотрят на известную картину Репина, изображающую, как Иван Грозный убивает своего сына, кому они больше сопереживают — преступнику или его жертве? Не вызывает сомнений: несмотря на весь ужас, который внушает здесь царь, именно он берет в плен сопереживание реципиента, пусть сложное, смешанное с безотчетным осуждением, сопровождаемое смятением свернутой, невербализованной мысли и все-таки… Ведь на лице Грозного — взрыв злобы и жестокости уже как бы сводится на нет нарастающим раскаянием перед собственным безумием, даже, пожалуй, печатью обреченности.
«Сопереживание» — понятие, нетождественное бесконтрольному «сочувствию»; оно и шире, и сложнее, и противоречивее. В случае с картиной Репина сопереживание не означает нашего оправдания тирана, но оно отличает «человечное», которое вдруг вышло из его смутной души на первый план нашего восприятия, и по принципу контраста тем сильнее становится художественное обличение.
Мы глубоко сопереживаем Отелло, хотя, что ни говори о нем хорошего, но все-таки благородный мавр убил ни в чем не виновную Дездемону, — почему-то его доверчивость склонилась к злонамеренным измышлениям Яго, а не к нравственной чистоте любящей жены. Но нам нужно это противоречие, оно усиливает сопереживание, доводит его до трагического катарсиса.
Более того, мы сопереживаем шекспировскому Ричарду III, особенно, как это ни странно, в сцене с леди Анной, когда он соблазняет женщину, у которой имеются веские основания его ненавидеть. Мы, быть может, ужасаемся собственному сопереживанию, но тем не менее оно есть, оно вызвано, по-видимому, восхищением титанизмом этого поэта властолюбия, преступного цинизма, потому что по контрасту в этом образе заложено восхищение мощью человеческого разума, безграничность возможностей человеческой целеустремленности.
Мы ждем в одно и то же время и успехов каждой очередной интриги Ричарда, и его конечного неминуемого поражения, и это противоречие питает наше сложное сопереживание: мы и вместе с трагическим героем, и вдали от него, наше сопереживание сопряжено с эмпатией и вместе с тем ее страшится, отвечая нашей потребности в торжестве справедливости, в наказании зла, что и дает удовлетворение финалом трагедии.
И еще один пример — образ совсем иного звучания, но лишенный права согласно догматической эстетике претендовать на «положительность» — Остап Бендер из дилогии И. Ильфа и Е. Петрова — авантюрист, обманщик, стяжатель… Правда, он герой комический, требующий, значит, к себе какого-то особого отношения, в его образе явно угадываются некоторые приметы старого плутовского романа. Как бы то ни было, но наше сопереживание и даже сочувствие — явно на стороне Остапа. Чем же он симпатичен? Умен, наблюдателен, ироничен не только к другим, но и к самому себе. Не причиняет явного зла хорошим людям, хотя использует их слабости, обнажает пустоту демагогии, смеется над тупостью, веяниями нелепой моды, многим таким, что в самом деле недостойно уважения; однако зачастую не бескорыстно смеется, а извлекает из всего этого выгоду. Почему же мы все-таки не принимаем близко к сердцу тот, как будто очевидный факт, что таланты Остапа направлены им к отнюдь не благородной цели — к обогащению? Не кажется ли нам, что стремление это — какое-то умозрительное, а увлекает героя не богатство, с которым, как потом выясняется, он толком не знает что делать, а процесс бурной изобретательной деятельности сам по себе, игра с опасностью, удовольствие от обнажения всяческого пустозвонства, претензий на значительность ничтожных личностей, многого другого, высмеиваемого авторами через образ их героя, в том числе и… жажды материальных излишеств. Противоречие? Несомненно. Но нам уже известно, что художественное восприятие движимо противоречиями, что оно призвано вызывать многосложное противочувствование.
И вот что, по-видимому, особенно важно для активности и глубины читательского сопереживания. Оно, безусловно, отличается и эстетически облагораживает явственно ощущаемый драматизм судьбы комического героя — не в его будущей преждевременной кончине, в значительной мере условной, а в его фатальном одиночестве, определяемом социальным смыслом образа. Тут снова противоречие: Остап очень «свой» во времени, он весь как художественный образ наполнен его атмосферой, жив его яркими приметами, ими насыщен. А как характер он чужд своему времени, потому что по его особости не в состоянии примкнуть к тем, кто строит социализм, так как остро чувствует издержки происходящего, да и вообще не может по свойствам личности «слиться» с каким-нибудь коллективом, не может и не хочет солидаризироваться и с прямыми нарушителями уголовного кодекса. Только с читателями «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» сближает Остапа Бендера его драматическое одиночество.
Так мы подошли к необходимости для сопереживания драматизма художественного образа — важнейшего своего стимулятора. «Драматизм» как эстетическая категория еще требует своего исследования, поиска точной дефиниции, объединяющей это понятие настолько, чтобы оно оказалось равно пригодным для разных видов искусства. Для тех из них, что воспроизводят непосредственно образ человека, драматизм отнюдь не тождествен «неустроенности» судьбы — термин вообще расплывчатый, вряд ли полезный для теории художественного творчества и восприятия.
Произведение искусства воспринимается иначе по сравнению с жизненными явлениями. Понятно, что чудовищный поступок Грозного, глядя на картину мы отнюдь не оправдываем, но образ царя, как отмечалось выше, выражает кричащее противоречие, а образ его сына — однозначен: гибель есть гибель, смерть есть смерть, хотя бы и преждевременная, хотя бы и от руки отца.
Поиск читателем драматизма в художественном произведении, в идеале — эстетического потрясения, сопряжен как будто с удивительным стремлением испытать отрицательные эмоции. Но такая «странность» отнюдь не исключена у человека и в жизни, — без риска, без испытания человеком себя «на прочность» не было бы и прогресса.
«Существует ли… влечение к отрицательным эмоциям, например, к страху, у человека? — спрашивает психоневролог В.А. Файвашевский. — Во многих случаях поведение человека бывает таким, что с внешней стороны его невозможно объяснить иначе, как интенсивным влечением к опасности. Достаточно вспомнить завзятых дуэлянтов прошлого, различных авантюристов-кондотьеров и конкистадоров, путешественников-землепроходцев, азартных игроков, ставивших на карту все свое состояние, любителей рискованных видов спорта наших дней. Отметим при этом три обстоятельства. Во-первых, чаще всего эти люди материально обеспеченные, во всяком случае настолько, чтобы не беспокоиться о поддержании своего повседневного существования. Во-первых, их сопряженные с опасностью действия доставляют им удовольствие (обратим на это особое внимание! — В.Б.). В-третьих, они субъективно не считают причиной своих поступков стремление к опасности, а обосновывают их прагматическими целями, риск же рассматривают как нежелательное препятствие к их достижению». Далее ученый говорит об «эмоционально-положительном восприятии негативной ситуации», о том, что «потребность в биологически и психологически отрицательных ситуациях проявляется в более или менее явном виде столь широко, что эта тенденция, будучи абсолютизирована без учета ее подчиненной роли по отношению к потребностям в положительной мотивации, создает иллюзию существования у живого существа, в частности у человека, стремления к опасности как самоцели».
Так в жизни. Тем более стремление испытать отрицательные эмоции на интенсивном фоне положительных оправданно в художественном восприятии, где опасность заведомо иллюзорна, хотя с помощью активной работы воображения по-настоящему затрагивает чувства, а сопереживание вызывает доподлинные слезы и смех. Поэтому если в жизни влечение к отрицательным эмоциям, доставляющим удовольствие, решается реализовать далеко не каждый, то встречи с искусством, насыщенным глубоким драматизмом, доступны и желанны всем, а мотивация, диктуемая в конечном счете потребностью в эмоциях положительных, очевидна — нельзя только забывать о необходимости здесь обратной связи, т.е. о получении положительного через отрицательное.
Интересно наблюдение над существенной разницей между художественным творчеством и его восприятием, имеющее прямое отношение к исследуемой нами проблеме, записано историком В.О. Ключевским: «Художественно воспроизведенный образ трогает воображение, а не сердце, не чувство, как художественно выясненная мысль возбуждает ум, не сердца… Настроение художника и настроения зрителя или слушателя — не одно и то же, а совсем разные по существу состояния: у одного творческое напряжение, чтобы передать, у другого критическое наслаждение от успеха передачи. Художник, испытывающий от своего произведения удовольствие, одинаковое со зрителем или слушателем, испытывает его как зритель или слушатель, как критик самого себя, а не как творец своего произведения». Конечно, Ключевский не прокламирует «безэмоциональное» восприятие, он указывает на путь к чувству через воображение, что сомнения не вызывает, хотя по современным данным проблемы не исчерпывает, так как игнорирует и прямое физиологическое воздействие искусства, и суггестивные свойства прекрасного, сотворенного художником. Но для нас важно проницательное суждение Ключевского о включенности критического начала в художественное наслаждение (кстати сказать, невозможное без эмоциональной захваченности реципиента).
Сопереживание и со-раздумье не останавливают собственную мыслительную деятельность читателя, отражающую и его жизненную установку, зависимую от потребностей, и его социальные связи, и его культурную оснащенность. Все это взаимосвязано и происходит одновременно в едином многоступенчатом и многоуровневом процессе. Поскольку сопереживание как бы выделяет из художественных произведений их жизненную первооснову, то к ней и относятся входящие в его состав критические потенции, реализуемые и в эмоциональной сфере. В наших примерах и Иван Грозный, и Ричард III не располагают (по-разному, конечно) к безоговорочному сочувствию, а посему сопереживание им так или иначе ограничивается, приобретает свой неповторимый характер, в частности и критичностью оценки их образно раскрытых личностей, их поступков, их окружения и т.п.
Этот вид критичности восприятия становится мало заметным или вообще сходит на нет, когда сопереживание обретает героя, близкого к воображаемой читателем суперличности, отвечающей его идеалу самого себя. Тем большую ответственность за впечатление от образа принимают на себя драматизм, найденные художником стимулы противочувствия читателя. В эстетическом плане здесь имеются в виду не только перипетии создаваемого художником образа драматической судьбы героя (а, например, в музыке — собственных драматических переживаний автора, передаваемых и от себя самого, и от имени других), но и драматизм вызывающих противочувствие несоответствий, подаваемых в различных жанрах (и комический эффект в данном случае рассматривается как частный случай функционирования драматизма).
Гамлет, Дон Кихот, Фауст — каждый из этих образов соткан из многих впечатляющих противоречий, анализу которых посвящена огромная литература, подтверждающая их безмерную глубину великолепием сходных и несхожих талантливых интерпретаций, отражающих и время своего создания, и личности своих авторов.
А очевидные и скрытые противоречия, скажем, тургеневского Базарова или гончаровского Обломова? Тончайший художественно-психологический анализ противоположных мотивов, душевных устремлений героев Л.Н. Толстого, кричащие внутренние противоборства героев Ф.М. Достоевского?
Если мы вдумчиво обратимся к вызывавшим широкий отклик образам советского искусства, то заметим в книге Д. Фурманова, и особенно в знаменитом фильме, противоречие между необразованностью Чапаева и его самобытным талантом. А как усиливает напряжение сюжета «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского назначение комиссаром на военный корабль, где властвуют анархисты, женщины?
Сопереживание читателя ищет в искусстве соответствие себе, своему опыту, своим волнениям, тревогам, своим богатствам эмоциональной памяти и всей психической жизни. Когда такое соответствие находится, то сопереживание герою, автору, его сотворившему, сливается с удивительно отстраненным сопереживанием самому себе, что дает наиболее сильный эмоциональный эффект. Это не такое переживание, которое оборачивается в жизни, возможно, стрессом, а «сопереживание», сопряженное со взглядом на себя как бы со стороны, сквозь призму художественного образа, сопереживание сильное, яркое, но эстетически просветленное. Этот «взгляд со стороны» тоже содержит в себе и элементы критичности.
Пафос критичности достигает наивысшего накала при восприятии сатирических произведений, а само сопереживание при этом превращается как бы в свою противоположность, т.е. в своеобразную эмпатию, либо вовсе лишенную сочувствия к герою, либо окрашенную сожалением по поводу его жалкой участи, поступков, принижающих человеческое достоинство.
Нет одинакового сопереживания, как нет унификации в подлинном искусстве, как нет двух личностей с полностью повторяющими друг друга психическим складом, жизненным опытом, генетическим наследством и т.п. Как мы видим при этом, характер, интенсивность и направленность сопереживания зависят и от меры отстранения, от того, насколько читатель ясно, четко воспринимает искусство как искусство, от степени восхищенности им как выражением прекрасного. Зависимость эта диалектична. Эмоциональная восторженность от встречи с прекрасным способна усилить сопереживание самим фактом усиленной аффектированности восприятия. Но вызванные тем же обстоятельством сотворчество, оценочная деятельность по поводу мастерства художника могут и снизить непосредственность сопереживания.
Говоря обобщенно, сотворчество — это активная творчески-созидательная психическая деятельность читателей, протекающая преимущественно в области воображения, восстанавливающая связи между художественно-условным отображением действительности и самой действительностью, между художественным образом и ассоциативно возникающими образами самой жизни в тех ее явлениях, которые входят в опыт, эмоциональную память и внутренний мир (интеллектуальный и чувственный, сознательный и неосознаваемый) реципиента. Эта деятельность носит субъективно-объективный характер, зависит от мировоззрения, личностного и социального опыта читателя, его культурности, вбирает в себя индивидуальные особенности восприятия и вместе с тем поддается суггестивной направленности произведения искусства, т.е. внушению им того или иного художественного содержания.
Может показаться, что сотворчество всего лишь противоположно по совершаемому пути собственно художественному творчеству. У некоторых ученых приблизительно так это и выглядит: художник кодирует, воспринимающий раскодирует, извлекая из образного кода заложенную в нем информацию. Но такой анализ лишает искусство его специфики. Сотворчество — проявитель художественных начал в читательском восприятии. Оно не просто расшифровывает зашифрованное другим, но и творчески конструирует с помощью воображения свои ответные образы, прямо не совпадающие с видением автора произведения, хотя и близкие им по содержательным признакам, одновременно оценивая талант, мастерство художника со своей точки зрения на жизнь и искусство. Последнее обстоятельство также нельзя упускать из виду в рассуждениях о воспитательной эффективности художественного воздействия.
Сама по себе такая оценочная деятельность отнюдь не однолинейна, она, в свою очередь, противоречива (оценка жизни, стоящей за произведением, и самого произведения, уровни культуры художника и читателя, эмоциональная захваченность ходом восприятия и рациональность оценки и т.п.), многоступенчата. Так, Е. Назайкинский, исследуя этот процесс при восприятии музыки, заключает: «В целом система оценочной деятельности… сложна и включает в себя самые различные действия.
Первый вид может быть определен термином перцепция. Он объединяет в группу получение художественного «впечатления», восприятие оценочной деятельности других слушателей, восприятие их мнений в момент их выражения.
Другим видом является апперцепция — актуализация ценностного и оценочного опыта, усвоенных критериев, шкал». Далее музыковед называет еще «оценочные операции», включающие сопоставление своего впечатления с общепринятыми критериями, с оценками других слушателей и т.п., фиксацию оценки, дает всем этим разнонаправленным действиям характеристики, далее отмечает «погружение» оценочной деятельности в «художественный мир», в «специфическую ткань произведения».
Каждый вид искусства по-своему требует от читателя оценочной деятельности, она необходима для полноты и суггестивности художественного впечатления, но разные направления ее по-разному «дозируют». Менее всего она заметна при восприятии произведений, ориентированных на художественный психологизм, т.е. на достижение наибольшего доверия к жизненной правде отображаемого и соответственно на эмоциональную напряженность сопереживания. Значительно откровеннее выступает оценочная деятельность при восприятии более или менее подчеркнуто условного искусства, чьи образы метафоричны, зачастую в расширенном значении этого понятия, требуют большей, чем психологизм, конструктивности от воображения реципиента. Но таков только один из компонентов сотворчества как активного процесса, включающего в себя нерасчлененное и во многом неосознаваемое восприятие содержания и формы произведения как утверждение торжества человеческого гения (не только в кантовской интерпретации этого понятия, но и в его расширительной трактовке).
Введем в наши соображения мнение Н.Я. Джинджихашвили о психологической необходимости искусства, отличной от социологической: «Мир, представленный художественным произведением, — добровольный мир, рожденный человеческим произволом. Повторяет ли он нынешний мир, воссоздает ли прошлый или предвосхищает будущий, — он существует лишь как допущение нашей собственной воли. Реальный мир человеку задан и пребывает независимо от его воли, тогда как художественная действительность полностью обусловлена нашим желанием: в нашей воле создавать или не создавать (воспринимать или не воспринимать) ее. Этот факт сообщает чувство свободы от того, что создано не нами; больше того: ощущение власти над ним».
Вряд ли целесообразно отделять психологическую необходимость от социологической, от творчески-познавательной и побуждающей к действию, но нам понадобилось это суждение для того, чтобы подчеркнуть, что гедонистическая окраска сотворчества сопряжена с этим ощущением свободы от отображаемого искусством, хотя бы в нашем сопереживании заметно присутствовали отрицательные эмоции, вызывающие подчас даже искренние слезы горячего сочувствия страданиям героя.
Это вдохновляющее сознание властности над предметом отражения, отображения и преображения, над творимой и воспринимаемой второй действительностью, получающей из рук человека суггестивные свойства, влияющей на его сознание и подсознание, изначально было связано с тотемическим и мифологическим мышлением. Не случайно в древности искусство пролагало пути разным своим видам в формах, как бы подчеркивающих его условность. Поэтому, очевидно, исторически поначалу складывалось преимущество сотворчества перед сопереживанием как ведущей стороны художественного восприятия, помогающего человеку осознать себя человеком, увереннее идти по дороге прогрессивного развития.
Как правило, условными средствами художественной выразительности изобретательно и последовательно пользуются все виды фольклора, в том числе фольклорный театр. Интересно отметить, что и русский фольклорный театр был, конечно, театром предельно условным. Поэтому можно с научной обоснованностью сказать, что развивал русские народные традиции в сценическом искусстве в значительно большей мере В.Э. Мейерхольд, чем К.С. Станиславский, — ведь театральный психологизм в России формировался как художественная система М.С. Щепкиным, начиная с 20-х годов XIX в.
Вот как, по свидетельству современника, ставилась пьеса «Царь Максимилиан», которую фольклористы признают подлинно «своей», т.е. истинно народной, в сибирском селе Тельма в 80-х годах прошлого столетия. Пьеса эта, так же, как и другая — «Царь Ирод», — «были занесены в давние времена местными отставными солдатами и устно передавались «от дедов к отцам, от отцов — к сыновьям». Каждое поколение точно сохраняло текст, мотивы песен, стиль исполнения и костюмировку. Исполнялись обе пьесы в повышенно-героическом тоне. Текст не говорился, а выкрикивался с особыми характерными ударениями. Из всех действующих лиц «Царя Максимилиана» только мимические роли старика и старухи — гробокопателей исполнялись в число реалистичных тонах и в их текст делались вставки на злобу дня (заметим намеренный анахронизм. — В.Б.). Женские роли королевы и старухи-гробокопательницы исполнялись мужчинами… Костюмы представляли из себя смесь эпох… Вместо парика и бороды привешивали паклю…»
Прервем это описание. Запомнились и другие условности представления. Но уже ясна развитая подвижность воображения зрителей в давние времена. Не тренированное встречами с профессиональным искусством, оно успешно дополняло жизненными ассоциациями условные обозначения мест действия и внешнего облика персонажей, приемы игры, только намекающие на правду действительности. Сотворчество зрителей через их воображение снимало затворы для их сопереживания, отличного по качеству, конечно, от того сопереживания, что вызывали впоследствии спектакли Художественного театра.
Так называемый критический реализм по сравнению со всеми ему предшествовавшими художественными направлениями решительно выдвинул сопереживание как основной компонент своего восприятия читателем, хотя, конечно, поиски новых видов художественной условности никогда не прекращались во всех видах искусства. Они приобрели небывалый на протяжении веков размах и глубину, разнообразие и новое качество в XX в. Эта тенденция приводила, как известно, и к немалым издержкам, приводя в крайних своих свершениях к разрушению художественной образности. Однако, как метко подытожила Н.А. Дмитриева свои наблюдения над западными живописью и скульптурой нового времени: «Искусство XX века, многим пожертвовав, многое утратив, научилось давать метафорическое тело вещам незримым».
Если мысль эту перевести в русло рассматриваемой нами проблемы, то можно сказать, что, начиная с постимпрессионизма, многие выдающиеся художники жертвовали сопереживанием своей аудитории, стремясь вызвать новое углубленное сотворчество, при этом нередко с одновременным прямым воздействием на неосознаваемую сферу психической жизни людей (музыкой стиха, сочетанием цветов, монтажом и другими композиционными приемами, разрушением стереотипов восприятия, новыми звукосочетаниями к т.п.). Подчас сугубо, казалось бы, индивидуальное видение мира, воплощенное в оригинальных образах, требовало столь же индивидуализированного ответного отклика, хотя бы и не адекватного предложенной художественной системе. Проникновение за пределы видимого искало особой смещенности привычного взгляда на предмет отображения, обнажающего суть явления, его подспудную динамику, уловить которую реципиенту нельзя непосредственным чувством, а можно лишь «пересотворить» заново в своем воображении, с тем чтобы ответствовать художнику собственными ассоциациями, вызванными его работой. В характере же сопереживания здесь на первый план выступают так называемые интеллектуальные эмоции, порожденные процессом разгадывания метафоры, удивлением перед неожиданностью (подчас эпатажной) предложенного решения и т.п.
Напрашивается, как будто, мнение, что именно сотворчеству суждено доминирующее и даже всеобъемлющее положение при восприятии созданного различными художественными течениями, которые принято объединять под весьма несовершенными вывесками «декадентство», «модернизм», «постмодернизм», «авангардизм» и т.п. Но, как мы уже выяснили, любая одноплановая констатация, игнорирующая противоречивость художественного восприятия, себя не оправдывает. Вдумаемся в реально происходящее.
Давно находятся желающие, — и это как бы само собой напрашивается, — найти общие признаки у многочисленных художественных направлений и течений, резко отличных от классических, традиционных принципиально новой постановкой творческих задач… Например, Н.Н. Евреинов писал в 1924 г., что «все направления искусства, начиная с декадентства и кончая футуризмом, представляют собой явления одного и того же порядка… Общее у всех этих различных на первый взгляд направлений — это стремление к иррациональности в искусстве, борьба за осуществление какового принципа была начата еще в конце XIX века так называемыми декадентами, — этими подлинно первыми борцами с рационалистическим засильем Золя, Толстого, передвижников, кучкистов и даже и «иже с ними»…».
Евреинов высказался в духе времени — с преувеличениями, рассчитанными на эпатаж читателей. Ну какие же рационалисты Л. Толстой или, скажем, М. Мусоргский? Великие эти художники понадобились Евреинову только как обозначение, условное, альтернативы «иррационализму». С большими оговорками можно принять и определение «борьба».
В произведениях Л. Толстого, М. Мусоргского и даже Э. Золя можно без труда обнаружить воздействие на «иррациональное» в отзывчиво настроенных человеческих «чувствилищах», т.е., надо полагать, — на нечто в образах, необъяснимое обыденными словосочетаниями, логическими построениями. Это так даже у авторов, прокламирующих свою рациональность, если они художники. Но не меняются ли сами принципы восприятия художественных открытий, начатых на рубеже века, продолженных во многих поисках?
Конечно, меняются. Возникает новое соотношение сопереживания и сотворчества и более того: заметны перемены во внутренних структурах того и другого при несомненной их принадлежности именно художественному восприятию. Произошел, если угодно, революционный скачок, но он не отменил традиции.
Преемственность в новом старого угадал и видный американский психолог Р. Арнхейм при всей своей приверженности к шедеврам классики. Он хорошо видит и принципиальные от нее отличия: «На протяжении последних нескольких десятилетий в современном искусстве наблюдалась тенденция к постепенному сокращению характерных черт в изображении физического мира. Своего крайнего выражения эта тенденция достигла в «абстрактном» или «беспредметном» искусстве… Отдаление от изображаемого объекта приводит к геометрической, стилизованной форме». Попытавшись найти этому движению социокультурологическое оправдание, психолог переходит к анализу восприятия в новых произведениях целого как конгломерата частностей, связи между которыми мы не в состоянии четко уяснить. «Возможно, — пишет, Р. Арнхейм, — такое обособленное восприятие приводит к интуитивному пониманию, потому что отход от реалистического изображения не означает полного отказа от этого метода. Зритель, чтобы создать себе лучшие условия восприятия картины, нередко отходит от нее подальше, то есть создает такую дистанцию между собой и рассматриваемой картиной, при которой случайные детали опускаются, а самое главное и существенное приобретает резко выраженные очертания. Чтобы схватывать основные факты более непосредственно, наука опускает все индивидуальное и внешнее. В лучших образцах современной «беспредметной» живописи и скульптуры делаются попытки через абстрактность показать это непосредственное схватывание чистых сущностей (поэтому Шопенгауэр и превозносил музыку как высший вид искусства». По мнению американского ученого, «концентрированное выражение абстракций является ценным лишь до тех пор, пока оно сохраняет сенсорную связь с жизнью. Именно эта связь дает возможность отличить произведение искусства от научной диаграммы».
Ценное для искусства концентрированное выражение абстракций? Что это такое? Способно ли оно вызвать сопереживание (кому) и сотворчество (какое)?
Но нельзя ли тот же взрыв объяснить стремлением пойти дальше классиков в раскрытии психологии личности, ее скрытых побуждений, невербализованных, «свернутых» мыслей, нереализованных потребностей, так важных для ее внутреннего мира? Предмет отображения — не только сущностное в объекте, но и скрытое сущностное в субъекте?
Пусть платформой для понимания проблемы послужит нам суждение Гегеля, так широко и перспективно толкующее миссию искусства, что она включает в себя на удивление и те художественные модификации, которые великий философ наблюдать, конечно, не мог.
Гегель, сопоставив образы и созерцания, а также абстрактные представления, далее писал:
«В субъективной сфере, в которой мы здесь находимся, общее представление есть нечто внутреннее; образ, напротив, — нечто внешнее. Оба эти друг другу противостоящие определения первоначально распадаются, но в этом своем обособлении представляют собой, однако, нечто одностороннее; первому недостает внешности, образности, второму — достаточной приподнятости, чтобы служить выражением определенного всеобщего. Истина обеих этих сторон заключается поэтому в их единстве. Это единство — придание образности всеобщему и обобщение образа — прежде всего осуществляется через то, что всеобщее представление не соединяется с образом в некоторый нейтральный, так сказать, химический продукт, но деятельно проявляет и оправдывает себя как субстанциональная мощь, господствующая над образом, подчиняет себе этот образ как нечто акцидентальное, делает себя его душой, в нем становится для себя, вспоминает себя в нем, само себя обнаруживает. Поскольку интеллигенция порождает это единство всеобщего и особенного, внутреннего и внешнего, представления и созерцания и таким образом воспроизводит наличную в этом последнем тотальность как оправданную, постольку представляющая деятельность завершается и в самой себе, будучи продуктивной силой воображения. Эта последняя составляет формальную сторону искусства, ибо искусство изображает истинное всеобщее, или идею, в форме чувственного наличного бытия, образа». Не знаю, надо ли просить прощения у читателя за столь пространную цитату, — надеюсь, ему было бы обидно, если бы я прервал столь насыщенное философско-психологическими наблюдениями течение гегелевской мысли, раскрывающей высшее предназначение искусства как потребности человека в углубленном двуедином освоении мира и самого себя. Иными словами это — потребность в развитии самого себя в неотъемлемой взаимосвязи с внешним миром, потребности увидеть, почувствовать себя в мире и мир в себе. Отсюда стремление в искусстве как бы вырваться за пределы непосредственно созерцаемого и осязаемого чувственного мира, чтобы выразить его сущность как самую объективную и одновременно как самую субъективную данность, объединяемые в идеале надличностным прозрением человеческого духа. Не случайно в начале XX в. столь влиятельными для художников становятся учения талантливых христианско-демократических философов, с одной стороны, и романтизированные доктрины с большей или меньшей долей мистицизма — с другой, а чуть позднее и стихийно-материалистические исследования Фрейда с их открытиями значения бессознательного в человеческой психике.
Понятно, что к пониманию поисков художниками «субстанциональной мощи, господствующей над образом», можно подойти и со стороны реалистического психологизма, вовлекающего читателя в такие подполье и выси чувств, мотивов, интересов героев, что без собственной развитости у читателя неуловимых переходов от сознательного к неосознаваемому и обратно становится неосуществимой та эстетизированная эмпатия, которая только и обеспечивает порыв к образному выражению тончайших проявлений человеческого духа. Не случайно «жизнь человеческого духа» наравне с «магическим «если бы» — ключевые понятия системы К.С. Станиславского.
Можно отметить четыре потока психологического обогащения художественного процесса (схематизируя его при этом, как водится в таких случаях), наиболее заметные в литературе. Это беспредельное напряжение слова в лихорадочно-исповедальных монологах и диалогах, когда, кажется, души выворачиваются наизнанку, когда нервный, сбивчивый ритм повествования добывает из самого сокровенного еще и еще недосказанное, которое и оказывается самым важным… Это изящная, музыкальная, лаконичная проза, поэзия, драматургия, неодолимо вовлекающая читателя в особую атмосферу доверительности, опускающая самое существенное во взаимоотношениях и побуждениях героев в более или менее легко угадываемый и словесно невыразимый подтекст бездонной глубины, мощно затягивающий в себя читательское воображение. Это литература, колдующая поражающей звукописью, многозначными символами-метафорами, обретающими относительную конкретность в окружении ассоциативных представлений, подчас парадоксальными по отношению к первичному значению текста, нередко как бы исподволь соединяющими телесное с духовным, космическое с личностным. И, наконец, это не чуждое заимствований у других потоков искусное и вдохновенное манипулирование условно-историческими и фантастическими образами, связанными замысловатыми ассоциациями с узнаваемыми приметами современности, и вместе с тем уводящее зачастую воображение в запредельные сферы жизни неосознаваемого… Произведения двух последних потоков порой создают иллюзию бесконечности времени и одухотворенности пространства, ощущение собственной нематериальности, а с ним и способности на секунды проникать в тайное тайных человеческого духа.
Куда было идти дальше?
Дальше дотошное внимание к психике человеческой личности, неминуемо в ее социальных связях (иначе ее просто нет), проявлялось в освобождении от любых прежде установленных художественных предначертаний и вело к отказу от всякого подобия сюжета, от верности зримой натуре, от фигуративности и всего прочего, что, казалось, тормозит выход к сущности миропорядка и места в нем человеческого духа, огражденного от давления зависимостей, искажающих его чистоту.
Такой требовательный психологизм, то рвущийся в поднебесье, то словно взрыхляющий нижние пласты духовного подполья там, где совмещается человеческое и животное, неуклонно развивался во всех видах литературы и искусства с поправками, конечно, на особенности каждого из них и на художнические индивидуальности. Как никогда прежде соединялись в единые товарищества поэты, прозаики, живописцы, композиторы, архитекторы, артисты, сближая свои творческие помыслы.
Парадоксальность решения задачи в том, что многие творцы, вздымая свой дух на вершины художественных озарений, выражали интуитивные видения, как бы приобщающие их к сверхчувственному наитию, способами, обращенными более всего к физиологически предопределенным восприятиям, неосознаваемо чувственным, непосредственно воздействующим на слух и зрение. Чередование звуков в музыке и поэзии, сочетание цветов и линий в живописи, причудливых объемов в скульптуре и архитектуре призваны были сами собой производить впечатление как бы намного большее смысла, доступного разуму, хотя бы и при его участии (в литературе, театре и проч.).
Оставалась ли сенсорная связь с жизнью? У выдающихся художников, чьи ассоциации вызывают у других людей ответные, — да, оставалась. Проверить это некому, кроме как все тому же известному нам сотворчеству. Ему принадлежит и почетная роль поднимать дух человека от физиологически обусловленных, т.е. как бы низших восприятий, к поэтическому освоению мира, предусмотренному художником. Без сотворчества художественному восприятию не найти точек опоры для собственных ассоциаций, несравненно более свободных, чем те, на которые рассчитывает реалистическое искусство. Закономерность прослеживается вновь парадоксальная: чем «абстрактнее» художественное произведение, чем дальше оно уходит от «фигурального изображения», тем ожидаются индивидуальнее, интимнее личностные на него отклики, тем труднее поддаются они обобщающему вербальному описанию. Их диалогичность сводится к доверительному воздействию «я — произведение», отгороженному, по видимости, от общества, хотя здесь все имеет свою социальную подоплеку: и я, и произведение, и взаимодействие.
Подлинное сотворчество вызовет сопереживание автору, — ведь именно его откровение (минуя несуществующих его героев, даже лирических) настраивает читателя на обостренное ответное чувство, которому следует быть за то благодарным. Чувство это особое, оно неотделимо от рефлексивного своего освоения; к тому же оно часто оказывается сродни своеобычному эстетизированному самоутверждению, тем более явственному, что обычно процесс этот проходит во внутренней полемике с теми, кто «не понимает» этого искусства. Здесь уместно, быть может, вспомнить замечание Гегеля: «Уже образы являются более всеобщими, чем созерцания; но они все-таки имеют еще некоторое чувственно конкретное содержание, отношение которого к другому такому же содержанию и есть я сам».
Но не открывает ли утонченность психического процесса восприятия абстрагированного художественного образа, нафантазированного художником, всеобщее существенное свойство сопереживания, укрытое обычно от нас реалистическим искусством с его сильно выраженными фигурами и отчетливыми настроениями?
Как мы помним, по Станиславскому, сближение человека с образом другого возможно только при перестройке тех свойств и качеств личности, которыми она обладала до этого акта. При самом активном желании идентификации мы не в состоянии привнести в себя нечто себе чуждое, такое, чего у нас нет и в зародыше. В жизни эмпатия — двустороннее движение: не только от себя к другому, но и от другого к себе. Тем более сохраняется собственное «я», хоть и переструктурированное воображаемо, при взаимодействии с художественным образом. Сколь бы ни был он реалистичен, даже натуралистичен, художественный отбор выделяет у героев произведения те или иные свойства и черты, как бы оставляя свободные места, на которые вторгается читатель со своими свойствами и чертами, соразмеряя их своим эстетическим впечатлением.
Следовательно, сопереживание герою романа, спектакля, фильма, картины и опосредованно симфонии, пейзажу и т.п. на самом своем «донышке» содержит сопереживание самому себе, но не такому, каков он есть на самом деле, а как бы преображенному согласно требованиям, заложенным в данном произведении, и в частности драматизмом предложенной в нем ситуации. Такова одна из причин известного самочувствия культурного читателя, которого, как правило, общение с искусством «возвышает».
Эстетизированное раздвоенное сопереживание «другому-себе» противоречиво и поэтому особенно действенно. Многое зависит, понятно, от структуры и содержания произведения, соотношения его частей. Любые новаторские поиски не отменяют, разумеется, развития реалистического психологизма, продолжающего классические традиции, не усложненного намеренно сгущенной метафоричностью. Неповторимое всякий раз диалектическое единство сопереживания и сотворчества так или иначе призвано обеспечивать долговременное впечатление. Вот каким предполагал К.С. Станиславский его постепенное усиление в последействии спектакля:
«Зритель — третий творец, переживает с актером. Пока смотришь — как должно быть, ничего особенного; после все сгущается, и впечатление созревает. Успех не быстрый, но продолжительный, возрастающий от времени.
Бьет по сердцу, действует на чувство. Чувствую. Знаю. Верю…
Впечатление растет и складывается — логикой чувства, постепенностью его развития. Впечатление развивается, идет по линии развития чувства. Природа одна всесильна и проникает в глубокие душевные центры. Поэтому воздействие пережитого неотразимо и глубоко. Воздействие на глубочайшие душевные центры».
Великий режиссер и актер интуитивно выразил сложность и глубину психического процесса претворения художественного впечатления. Может показаться, что его основным источником является только переживание. Но ведь и сотворчество переживается. Оно часто бывает трудным, требующим ряда преодолений, поиска, сопряженного с эмоциональным подъемом, с возникновением мыслей и чувств, нередко противоречивых.
Понятно, что чем сильнее впечатление, тем обоснованнее надежда на его конечную эффективность, на то, что «сверхзадача» произведения, проведенная «сквозь» сопереживание и сотворчество читателя, будет благотворно им усвоена. О том, так это или иначе, как правило, никто знать не будет, об этом мы только догадываемся. Реальное воздействие искусства настолько переплетается со многими другими воздействиями — экономическими, социальными, культурными, что различить каждое из них в отдельности на практике никак невозможно. Тем значительнее в этом деле неоценимой важности роль теории. Пока что только она в состоянии, сопоставляя многие данные, выдвигая в результате их изучения гипотезы, подкрепленные практикой, приблизиться к пониманию «механизмов» психической «переработки» художественного воздействия.
«Человек как мыслящее и чувствующее существо, — пишет И.Т. Фролов, — еще раз доказал, насколько он сложнее тех сциентистских ограниченных представлений о нем, которые когда-либо создавались в прошлом, существуют в настоящем и, наверное, будут создаваться в будущем. Homo sapiens — человек разумный, но он весь соткан из противоречий и страстей жизни земной. И только как человек земной он утверждает свою самоценность и вообще представляет какой-либо интерес в космическом плане…
Открывая внутренний мир личности, искусство приобщает нас к наиболее развитым формам ее жизнедеятельности и некоему личностному и социальному идеалу. В этом смысле искусство — самая человечная форма общения и приобщения к вершинам человеческого духа.
Для достижения такой желанной цели нужно, чтобы переживание было подлинным, а произведение искусства — его достойным, т.е., как мы пытались показать, способным вызвать сопереживание и сотворчество читателя на уровне художественного драматизма.
Само собой разумеется, что процессы эти ждут дальнейшего исследования и эстетикой, и психологией, и искусствознанием, и социологией, и другими гуманитарными науками.
Блок В.Б. Сопереживание и сотворчество. // Художественное творчество и психология. Сборник. — М., Наука, 1991, стр.31-55
Что такое мировоззрение?
Аборт. Эвтаназия. Порнография. Однополый брак. Права трансгендеров. Эмбриональное исследование. Генетическое улучшение. Христиане, изучающие культурный ландшафт на Западе, ясно понимают, что дела идут в деструктивном направлении. В то время как большинство верующих могут легко определить симптомы упадка, немногие чувствуют себя компетентными в диагностике и устранении первопричин. За этим развитием стоит множество сложных факторов, но одним из бесценных инструментов для лучшего понимания и взаимодействия с нашей культурой является концепция мировоззрения.Социологические землетрясения и моральные трещины, которые мы наблюдаем в наши дни, во многом обусловлены тем, что мы могли бы назвать «культурной тектоникой плит»: сдвигами в лежащих в основе мировоззрений и столкновениями между ними.
Что такое мировоззрение? Как следует из самого слова, мировоззрение — это общий взгляд на мир. Это не физический взгляд на мир, а скорее философский взгляд, всеобъемлющий взгляд на все, что существует и имеет для нас значение.
Мировоззрение человека отражает его самые фундаментальные убеждения и предположения о вселенной, в которой он обитает.Это отражает то, как он ответил бы на все «большие вопросы» человеческого существования: фундаментальные вопросы о том, кто и что мы, откуда мы пришли, почему мы здесь, куда (если куда-то) мы направляемся, значение и цель. жизни, природы загробной жизни и того, что считается хорошей жизнью здесь и сейчас. Мало кто задумывается над этими проблемами сколько-нибудь глубоко, и еще меньше людей имеют твердые ответы на такие вопросы, но мировоззрение человека, по крайней мере, склонит его к определенным ответам и отдалит от других.
Мировоззрение формирует и информирует нас об окружающем мире. Подобно очкам с цветными линзами, они влияют на то, что мы видим и как мы это видим. В зависимости от «цвета» линз, некоторые вещи могут быть видны легче или, наоборот, они могут быть не акцентированы или искажены — действительно, некоторые вещи могут быть не видны вообще.
Мировоззрение также во многом определяет мнение людей по вопросам этики и политики. То, что человек думает об абортах, эвтаназии, однополых отношениях, экологической этике, экономической политике, государственном образовании и т. Д., Будет зависеть от его основного мировоззрения больше, чем от чего-либо еще.
Таким образом, мировоззрение играет центральную и определяющую роль в нашей жизни. Они формируют то, во что мы верим и во что готовы верить, как мы интерпретируем наш опыт, как мы ведем себя в ответ на этот опыт и как мы относимся к другим. Наши мысли и наши действия обусловлены нашим мировоззрением.
Мировоззрение действует как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Редко бывает, что два человека имеют совершенно одинаковое мировоззрение, но они могут разделять один и тот же базовый тип мировоззрения.Более того, в любом обществе одни типы мировоззрения будут представлены более заметно, чем другие, и, следовательно, будут оказывать большее влияние на культуру этого общества. В западной цивилизации примерно с четвертого века доминирует христианское мировоззрение, несмотря на то, что были отдельные лица и группы, которые бросили ему вызов. Но за последние пару столетий по причинам, варьирующимся от технических до теологических, христианское мировоззрение утратило свое господство, а конкурирующие мировоззрения стали гораздо более заметными.К этим нехристианским мировоззрениям относятся:
- Натурализм: Бога нет; люди — просто высокоразвитые животные; Вселенная — замкнутая физическая система.
- Постмодернизм: нет объективных истин и моральных норм; «Реальность» — это, в конечном счете, человеческое социальное построение.
- Пантеизм: Бог есть совокупность реальности; таким образом, все мы божественны по своей природе.
- Плюрализм: разные мировые религии представляют одинаково обоснованные взгляды на высшую реальность; есть много верных путей к спасению.
- Ислам: есть только один Бог, и у Него нет сына; Бог открыл Свою волю для всех людей через Своего последнего пророка Мухаммеда и Его вечное слово, Коран.
- Моралистический терапевтический деизм: Бог просто хочет, чтобы мы были счастливы и милы по отношению к другим людям; Он вмешивается в наши дела только тогда, когда мы взываем к Нему, чтобы помочь нам.
Каждое из этих мировоззрений имеет огромное значение для того, как люди думают о себе, какое поведение они считают правильным или неправильным и как они ориентируются в своей жизни.Поэтому крайне важно, чтобы христиане могли бороться с неверием на мировоззренческом уровне. Христиане должны понимать не только, что значит иметь библейское мировоззрение, но и почему они должны твердо придерживаться этого мировоззрения и применять его ко всей жизни. Они должны уметь определять основные нехристианские мировоззрения, которые соперничают за господство в нашем обществе, понимать, в чем они принципиально отличаются от христианского мировоззрения, и приводить аргументированные аргументы в пользу того, что христианское мировоззрение само по себе истинно, хорошо и верно. красивая.
Задача стоит больше, чем когда-либо. Но мы не должны расстраиваться, потому что возможности и ресурсы, доступные нам, теперь больше, чем когда-либо. Примерно за последние полвека в христианской философии и апологетике произошел заметный ренессанс, большая часть которого была сосредоточена на развитии и защите библейского мировоззрения. Все, что Бог призывает делать Свой народ, Он снаряжает для этого (см. Еф. 4: 11-12; Евр. 13: 20-21). Проблема не в том, что церковь недостаточно оборудована, а в том, что ей еще предстоит в полной мере использовать то, что дал ей Христос.
Этот пост был первоначально опубликован в журнале Tabletalk .
Каково ваше мировоззрение? — Сосредоточьтесь на семье
Место действия: Африканская равнина оживает, собирая зебр, газелей, жирафов, слонов, всех животных в величественном паломничестве, чтобы увидеть своего будущего короля, милого новорожденного львенка Симбу. Получив благословение Рафики, шамана-обезьяны львиного прайда, все животные, большие и маленькие, кланяются на согнутых коленях в поклонении поднятому детенышу.На заднем плане играет песня «Круг жизни» — «Это круг жизни / И он движет всеми нами / через отчаяние и надежду / Через веру и любовь / Пока мы не найдем свое место / На раскручивающемся пути / В круг, круг жизни ».
Любой родитель с детьми старше 8 лет хорошо знает сцену, описанную выше, и большинство из них все еще может спеть эту песню. Такие фильмы Диснея полны чудесных творческих персонажей, захватывающих сюжетных линий и запоминающейся музыки. Миллионы семей по всей Америке смотрели популярный фильм Король Лев , когда он вышел в 1993 году, восхищаясь Симбой и выходками его друзей Пумбы и Тимона, поющих «Акуна Матата.«Настоящий гений Диснея. Но какое мировоззрение поглощали миллионы впечатлительных дошкольников? Верна ли концепция «круга жизни» в соответствии со Словом Божьим? Согласуются ли идеи фильма с христианским мировоззрением?
Как и все, что мы смотрим, слушаем или читаем, Король Лев содержит мировоззрение. И если вы не знаете, что ищете, если у вас нет четкого представления о собственном мировоззрении, это часто бывает трудно различить.
Так каково мировоззрение Король Лев ? Несмотря на несколько хороших моральных уроков, это не библейское христианство.Представление о «круговороте жизни», о том, что история является круговой, а настоящее находится под сильным влиянием духов предков, ближе к восточному пантеизму или местному спиритуализму, чем линейный взгляд на историю, представленный в Библии. Но как среднему родителю знать и различать мировоззрение и как родители могут научить своих детей оценивать мировоззрение самостоятельно?
ЧТО ТАКОЕ WORLDVIEW?
Worldview — последнее модное слово в христианских кругах. Нам всем говорят, что он нужен, и знаем мы об этом или нет, но у всех он есть.Но что такое мировоззрение? Буквально, конечно, мировоззрение — это то, как человек смотрит на мир . Мировоззрение человека состоит из ценностей, идей или фундаментальной системы убеждений, которая определяет его взгляды, убеждения и, в конечном итоге, действия. Обычно это включает его взгляд на такие вопросы, как природа Бога, человека, смысл жизни, природа, смерть, а также добро и зло.
Мы начинаем развивать наше мировоззрение еще в раннем детстве, сначала через взаимодействие в семье, затем в социальной среде, такой как школа и церковь, а также благодаря нашим товарищам и жизненному опыту.Наша медиакультура все чаще играет ключевую роль в формировании мировоззрения. Наша культура насыщена мощными медиа-образами в фильмах, телевидении, рекламе и музыке. И, как забавный и, казалось бы, добрый Король Лев, то, что мы смотрим, слушаем и читаем, влияет на то, как мы думаем. Постоянное употребление развлечений с ложными идеями неизбежно исказит наш взгляд на мир.
Хотя Библия никогда не использует слово «мировоззрение» в Колоссянам 2: 6-8, нам велено уметь распознавать и отбрасывать ложную философию, которая по сути является мировоззрением.«Итак, так же, как вы приняли Христа Иисуса как Господа, продолжайте жить в Нем, укорененные и утвержденные в Нем, укрепленные верой, как вас учили, и исполненные благодарности. Позаботьтесь о том, чтобы никто не взял вас в плен посредством пустой и обманчивой философии, которая зависит от человеческих традиций и основных принципов этого мира, а не от Христа ».
Джефф Болдуин, сотрудник Worldview Academy в Техасе, говорит, что мировоззрение «похоже на невидимую пару очков-очков, которые вы надеваете, чтобы помочь вам ясно увидеть реальность.Если вы выберете правильную пару очков, вы сможете все отчетливо увидеть и сможете вести себя синхронно с реальным миром. … Но если вы выберете неправильную пару очков, вы можете оказаться в худшем положении, чем слепой, думая, что вы ясно видите, тогда как на самом деле ваше зрение сильно искажено ». Чтобы выбрать «правильные» очки, вы должны сначала понять и принять истинное мировоззрение.
WORLDVIEW ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
У взрослого человека уже есть мировоззрение. Задача состоит в том, чтобы формализовать его, задав зондирующие вопросы, чтобы помочь вам понять, во что вы верите и почему вы в это верите.В ходе этого процесса, если ваше мышление несовместимо с библейским учением, вы можете отбросить ложные идеи и заменить их истиной. Доступен ряд ресурсов по мировоззрению, которые помогут вам в этом процессе формализации. В разных ресурсах используются несколько разные подходы, но все они дают фундаментальные ответы на важные жизненные вопросы.
В своем преподавании мировоззрения и великих книг ученикам домашнего обучения в возрасте от 12 до 18 лет я использовал серию из семи вопросов, чтобы помочь им формализовать собственное мировоззрение и помочь им оценить конкурирующие мировоззрения.Эти семь вопросов являются общими для многих мировоззренческих ресурсов и представляют собой эффективный инструмент для взрослых и подростков, особенно для оценки мировоззрения книг, музыки и фильмов:
- Есть ли бог и какой он?
- Какова природа и происхождение Вселенной?
- Какова природа и происхождение человека?
- Что происходит с человеком после смерти?
- Откуда берутся знания?
- Что является основой этики и морали?
- В чем смысл истории человечества?
Похожий подход из семи вопросов можно найти в превосходном ресурсе по мировоззрению The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog Джеймса У. Сайра, а также в Worldviews of the Western World , трехлетнем мировоззрении и великом мировоззрении. Учебная программа для домашних учителей, написанная Дэвидом Куайном.В статье Чака Колсона «Как теперь нам жить» используется подход, состоящий из четырех вопросов. Неважно, сколько вопросов вы задаете, просто вы начинаете задавать важные вопросы жизни в четырех ключевых областях — божестве, происхождении, природе и правилах — а затем отвечаете на них, основываясь на Писании.
Поиск ответов с помощью Библии составляет основу христианского или библейского мировоззрения. Например, человек, придерживающийся библейского мировоззрения, ответил бы на вопрос: «Есть ли бог и какой он?» используя то, что он знает как истину о характере Бога в соответствии с Писанием.Библия учит, что Бог суверенен, личен, бесконечен, трансцендентен, справедлив, всеведущ, имманентен и добр. Эти атрибуты никоим образом не являются исчерпывающими, но они устанавливают основной характер Бога. Этот контрольный список является отправной точкой для выявления ложных или конкурирующих мировоззрений. Ответы на другие вопросы также можно получить из Священного Писания, и они представлены во многих книгах о мировоззрении или трудах по христианской апологетике.
Как только вы сможете четко ответить на эти вопросы для себя, основываясь на Священном Писании, вы сможете применить их ко всему, что смотрите, читаете или слушаете.Например, прошлогодняя премия «Оскар» за лучший фильм досталась фильму « Гладиатор» . В ответ на вопрос «Есть ли в фильме бог и какой он? «- существовал не только бог, но и множество богов, что было преобладающим религиозным воззрением в Древнем Риме. Кроме того, в начале фильма главный герой Максимус устанавливает святыню в своей палатке и ежедневно молится этим богам, чтобы они присмотрели за его женой и ребенком. Однако эти боги не могли предложить истинную надежду на спасение или избавление через Иисуса Христа.
А как же основы этики и морали в фильме? Он действительно изображает добродетель в верности и преданности Максима умирающему императору Рима. И все же его мораль и этический кодекс движимы его железной волей выжить, чтобы отомстить за убийства своей жены и сына. Мы видим, что, как и Максимус, у каждого персонажа есть свой собственный набор моральных принципов или этической повестки дня, в зависимости от их индивидуальной ситуации. Мораль тренера Максимуса определяется его жадностью и стремлением к известности, основанной на выступлениях его гладиаторов.У него нет этических проблем, отправляя невинных людей на кровавую насильственную смерть, чтобы получить прибыль или повысить свое социальное положение. Точно так же сестра императора Коммодиуса доверяет Максимусу в заговоре с целью отомстить за убийство его семьи, но позже предает его, чтобы спасти своего собственного сына. Мораль и этика в фильме основаны не на вере в трансцендентную истину, как в библейском мировоззрении, а на том, что целесообразно для обстоятельств каждого персонажа — утилитаризме или моральном релятивизме. Точно так же и другие вопросы можно применить к фильму, а затем сравнить с библейским мировоззрением.Несмотря на то, что в фильме проповедуются добродетель и самопожертвование, мировоззрение Gladiator в целом не соответствует библейскому мировоззрению. Мощные образы, привлекательная упаковка ложных идей и эмоциональные манипуляции, широко распространенные в индустрии развлечений, демонстрируют необходимость для христиан иметь четкое мировоззрение.
Трейси Ф. Мансил работала в Центре политики штата Аризона, когда писалась эта статья. Она преподавала мировоззрение в средней школе.
Что влияет на формирование нашего мировоззрения? | Уилл Кэмпбелл
Как мы можем поверить в мировоззрение? Что формирует наше мировоззрение? В этой статье объясняется, как все мы приходим к формированию Мировоззрения, осознаем мы это или нет.
Есть много вещей, которые влияют на то, как мы формируем наше мировоззрение. К сожалению, я стоит последним в этом списке.Каждый человек обладает Мировоззрением. Однако мы не рождаемся с ним. Мировоззрение, которого мы придерживаемся, составляет основную часть нашей идентичности.Учитывая, что в младенчестве мы на самом деле не обладаем способностью формировать слова, не говоря уже о понимании абстрактных понятий, позволяет нам понять реальность того, что у нас нет Мировоззрения. Мировоззрение формируется в нас с течением времени, укрепляясь по мере того, как мы переживаем различные жизненные события. Некоторые вещи напрямую влияют на то, как мы формируем наше мировоззрение, а другие — косвенно. Итак, что это за вещи и как они участвуют в формировании нашего мировоззрения и нашей идентичности?
Когда вы сядете и серьезно обдумаете это, вы сможете легко определить, что это за вещи.Это довольно интуитивно понятно, если вы действительно подбрасываете эту идею в голове. Это, вероятно, самый простой аспект понимания того, что такое мировоззрение и откуда они берутся. Просматривая список, важно отметить, что мы можем идентифицировать любое количество вещей, которые влияют на наше мировоззрение. Однако почти все индивидуальные вещи можно разделить на категории, которые здесь будут идентифицированы. Кто-то может реорганизовать или, возможно, изменить названия этих вещей, но этот список кажется самым простым, но наиболее полным способом объяснить эту тему.
Семья
Возможно, наиболее очевидными из основоположников нашего Мировоззрения были бы наши ближайшие родственники. Наши родители оказывают на нас наибольшее влияние, пока мы растем от младенчества до юношеского возраста. Даже если в наше время мы обнаруживаем, что в наши дни дети проводят больше времени в школе или перед телевизором, родители занимают уникальное и особенное место в том, как мы формируем нашу идентичность и, следовательно, наше мировоззрение. Наши родители будут прививать нам те ценности и принципы, которые им дороги, и заставят нас верить так, как они верят.Они учат нас тому, что правильно и что неправильно, и они объясняют нам повествовательную историю человечества и космоса, когда мы задаем вопросы и переживаем новые открытия в нашей маленькой жизни. Это продолжается и во взрослой жизни для тех, кто поддерживает прочные, позитивные отношения с нашими родителями, но может ослабнуть, когда мы станем более независимыми.
Помимо наших матерей и отцов, наши старшие братья и сестры и другие родственники также влияют на то, как мы формируем наше мировоззрение. Когда мы видим, что наши родители соглашаются или не согласны с тетями и дядями, когда наши бабушка и дедушка рассказывают нам истории своей жизни, и когда наши старшие брат и сестры изводят нас и играют с нами, все они влияют на то, как мы формируем наше мировоззрение.Многие будут утверждать, что это все, что нужно для формирования нашего мировоззрения, но это, как правило, очень предвзятые люди, использующие такую теорию как способ унизить или умалить мировоззрение, которому они противостоят. Хотя влияние нашей семьи на наше мировоззрение весьма существенно, это не единственное, что формирует как нашу идентичность, так и мировоззрение, на котором она основана.
Помимо ближайших родственников и родственников, начиная с юности и до взрослого возраста, мы также должны включать в себя наших супругов.По мере того, как мы начинаем создавать свои собственные семьи, испытывая, каково быть нашими родителями, будучи самими родителями, наше мировоззрение начинает подвергаться сомнению или подтверждению своего практического применения. Наши дети сильно повлияют на наше мировоззрение, и любой новый отец может сказать вам, что мир меняется, когда вы держите своего первенца на руках. Эти переживания, наряду с чувством долга и долга воспитывать наших детей в истине, влияют на наше мировоззрение так, как ничто другое не может. Стать родителем одновременно и очень радостно, и унизительно, заставляя даже самых уверенных в себе людей встать на колени в поисках ответов, которые им придется дать тому малышу, которого они держат на руках.
Друзья
Следующий влиятельный человек — это наш круг друзей по мере взросления и даже во взрослом возрасте. Те, кто вне семьи, с которыми мы формируем особые узы дружбы, будут влиять на наше мировоззрение более драматично, чем семья, в зависимости от наших отношений с родителями и родственниками. Если у нас будут здоровые и крепкие отношения с родителями, друзья не будут иметь такого большого влияния. Однако, если наши отношения с родителями запятнаны трудностями и проблемами, тогда наши друзья становятся следующей лучшей вещью, когда мы пытаемся найти ответы на жизнь.Наши друзья склонны влиять на наше мировоззрение с точки зрения «давления со стороны сверстников». Это может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, кем они пытаются на вас повлиять.
Уникальность этих отношений заключается в том, что наша личность позволяет друзьям быть более или менее значимыми влиятельными лицами. Если у нас будет сильная воля и смелость, то мы повлияем на наших друзей больше, чем они повлияют на нас. Если нас легче переубедить, возможно, мы будем более застенчивыми или робкими, мы приспособим себя к тому, что, кажется, ожидают от нас наши друзья.Но даже если мы занимаем что-то вроде лидерской роли среди наших друзей, то, как они реагируют на наше лидерство, также повлияет на наше мировоззрение, особенно в области нашей этики и практического применения мировоззрения. По мере того, как мы становимся старше, если мы не формируем свое собственное мировоззрение сознательно, то как бы ветер ни дул наших друзей, мы будем следовать за ним. Однако наша личность также играет в этом роль.
Сообщество
Как вы, вероятно, можете сказать, мы уходим от более непосредственных и непосредственных влиятельных лиц и работаем над своим выходом.Следующим «кольцом влияния», если хотите, будет сообщество, в котором мы выросли. Культура оказывает наиболее значительное влияние на нас в процессе взросления и оказывает наиболее значительное влияние на нашу Этику и более поверхностные уровни формирования мировоззрения. Однако, в зависимости от традиций в культуре, в которой мы выросли, другие элементы, такие как Повествовательная история Мировоззрения, могут быть сформированы путем рассказа истории сообщества, в котором мы выросли. Общие обычаи и вежливость сообщества будут влиять на то, как мы будем вести себя при взаимодействии с другими, а «социальные нормы» сообщества будут влиять на то, что мы воспринимаем как нормальное течение человеческих дел.
Наиболее распространенным фактором, влияющим на наше мировоззрение в сообществе, является желание, которое мы должны «вписаться». Мы обнаружим, что принимаем определенные убеждения, которых придерживается сообщество, просто из желания жить хорошо и мирно среди наших соседей и поселков. Однако с возрастом это может исчезнуть. Когда мы начинаем рисковать самостоятельно, открываясь для других культур и сообществ, опять же, в зависимости от нашей личности, другие культуры и сообщества могут начать влиять на нас. Именно в таких ситуациях человек либо пытается приспособить свое мировоззрение, чтобы синхронизировать его с мировоззрением новых сообществ, которые они называют своим домом, либо он остается верным своим корням.В любом случае, эта динамика оказывает большое влияние на то, как формируется наше мировоззрение как в юности, так и во взрослом возрасте.
Образование
Теперь перейдем от более широких влияний наших мировоззрений к более конкретным, самым важным фактором влияния является наше образование. В зависимости от того, где мы получили образование и какое мировоззрение преподается, мы обнаружим, что принимаем то мировоззрение, которое есть у педагогов. Это имеет более сильное влияние на формирование нашего мировоззрения, чем семья и друзья, однако на них также может повлиять наша личность.Но как бы то ни было, образование дает нам ответы на различные вопросы, которые у нас, возможно, были, или мы даже не думали о том, чтобы их задать, или когда-либо действительно заботились о них. Учреждения обучения в нашем сообществе и культуре прививают нам наиболее прямую и повторяющуюся форму ценностей, принципов и приложений Мировоззрения, которое доминирует над педагогами, независимо от того, осознают они это или нет.
В учебных программах более формальных учебных заведений есть Мировоззрение, устанавливающее, что важно.Как преподают историю? Какую историю будут преподавать? Какие предметы самые важные? Все эти решения, принимаемые педагогами, исходят из их Мировоззрения, которому они научились в учебных заведениях, которые они посещали, чтобы получить степени и сертификаты для преподавания. Поскольку именно в школе мы впервые сталкиваемся с окружающей средой, в которой задаем вопросы и получаем ответы, если бы наши родители не делали этого для нашего личного удовлетворения до посещения школы, тогда наши учителя становятся нашей северной звездой.Мы обнаруживаем, что смотрим на них за руководством и указаниями, а содержание предметов, которые они преподают, становится пророками и священниками нашего нового Мировоззрения. Опять же, в зависимости от того, насколько здоровы и крепки наши отношения с нашими родителями и родственниками, любое Мировоззрение, которому учат наши педагоги, станет Мировоззрением, с которым мы начинаем в мире.
Помимо прямого воздействия наших образовательных учреждений на наше мировоззрение, мы также должны понять, что школа — не единственный источник информации.Когда мы вырастаем и заканчиваем школу, мы находим другие источники информации о том, что происходит в мире. Наши источники информации меняются, и мы меняем преподавателей на выпуски новостей и профессоров на авторов книг. Каким бы ни было Мировоззрение наших источников новостей и информации, это Мировоззрение постепенно станет нашим собственным, если мы не будем тщательно формировать его для себя. Когда мы ищем информацию, ищем правду о мире из различных источников, они становятся нашими новыми учителями, и они предлагают нечто большее, чем просто репортажи.Они также рассказывают нам об этом через призму своего собственного Мировоззрения. Чем больше они щекочут нам уши тем, что нам нравится, тем больше мы начинаем соглашаться с тем, о чем они сообщают, не только с информацией, но и с тем, как они это сообщают.
Популярное влияние
По мере того, как мы становимся старше, все мы, кажется, переживаем что-то вроде бунтарской полосы. Опять же, в зависимости от нашей личности и того, насколько здоровы и крепки наши отношения с семьей и друзьями, следующим по значимости фактором влияния является тот, который популярен в то время.Этот влиятельный человек совпадает с «источниками информации», описанными в предыдущем разделе. Тем не менее, этот влиятельный человек больше похож на представителей популярной культуры, развлечений, СМИ и тех, на кого мы равняемся. Лидеры, которыми мы восхищаемся и к которым обращаемся за советом в процессе своей жизни, из-за того, как они нас привлекают. Не потому, что они обязательно делают что-то сомнительное (хотя это всегда вызывает беспокойство), а потому, что эти популярные влиятельные лица имеют… влияние. Благодаря своей славе, индивидуальности, стилю или убедительности, эти популярные влиятельные лица — это те люди, которые составляют мир музыки и фильмов, искусства и стиля.
Эти влиятельные лица, как правило, начинают больше всего влиять на нас в подростковом возрасте. То, как они изображают себя и свое мнение, больше всего влияет на наши эмоции. Всякий раз, когда мы злимся на своих родителей, мы обращаемся к той популярной рок-звезде или кинозвезде из Голливуда, которая говорит все правильные вещи и чья чванство и индивидуальность заставляют нас хотеть повторить то, что они делают. Это может быть даже лидер сообщества, обладающий влиянием и властью. Часто нас привлекают политики или деятели СМИ, такие как ведущие ток-шоу или популярные подкастеры.Это люди, которые могут влиять на других, что кажется почти неестественным. Наряду с нашим образованием и семьей эти популярные влиятельные лица могут быстро заполнить личные пробелы в нашей жизни. Может быть, мы выросли в неблагополучной семье, и какая-нибудь популярная личность в местном сообществе исполняет эту отцовскую роль для нас в наших сердцах. Как бы то ни было, их влияние может повлиять на нас во взрослой жизни, и у нас всегда есть кто-то, к кому мы обращаемся, кто может помочь нам заполнить пробелы в нашем мировоззрении.
Жизненный опыт
Другой важный фактор, влияющий на наше мировоззрение, действует на нас более косвенным образом. Этот влиятельный человек работает над нами, казалось бы, на заднем плане. В других случаях это дает нам пощечину, опустошая нас до глубины души и вызывая драматические изменения в нашей идентичности и в том, как мы смотрим на мир. Это наш жизненный опыт. По мере того, как мы идем по жизни из детства во взрослую жизнь, вещи, которые мы переживаем и переживаем, либо подтверждают убеждения, привитые нам нашей семьей, друзьями и обществом, либо полностью уничтожают их.Иногда эти события раскрывают то, что мы считали правдой. В других случаях они могут сделать наши убеждения настолько реальными, что мы понятия не имеем, как другие могли думать иначе.
Жизненный опыт, возможно, не является самым важным фактором влияния, но он является подтверждением того, во что мы верили. Бывают моменты, когда травматический опыт может шокировать нас до полного отрицания реальности, потрясая нас до глубины души. В других случаях у нас случаются тонкие открытия, которые пробивают дыры в том, что мы считали правдой.В любом случае то, что мы переживаем в жизни, окажет либо положительное, либо отрицательное влияние на наше мировоззрение. Чаще всего это жизненный опыт, который выбивает нас из-под поверхностной жизни, которой мы, возможно, наслаждаемся, и заставляет глубже задуматься о том, во что мы верим. Хотя событие может не повлиять напрямую на наше мировоззрение, оно определенно вырывает нас из тех мечтаний, в которых мы могли бы жить другим влиятельным лицом. первым в списке.Нам всем хотелось бы думать, что мы пришли только для того, чтобы сформировать собственное мировоззрение. Однако, изучив этот список, я думаю, вам будет сложно переосмыслить это предположение. Влияние нашего собственного сознательного мышления на наши убеждения всегда активно, однако не часто мы вовлекаем свое мышление в «более глубокий» уровень философских вопросов о Боге, Человеке и Космосе. На самом деле, размышления о том, как мы отвечаем на вопросы о происхождении, значении, морали и судьбе, — не всегда то, чем мы занимаемся по утрам, потягивая кофе.Вот почему я упоминаю этого инфлюенсера в последнюю очередь.
Когда мы идем по жизни, то, что обычно заставляет человека тщательно обдумать, как он отвечает на эти вопросы, является своего рода травмирующий жизненный опыт. Самый близкий человек умирает неожиданным образом, то, что мы глубоко считали правдой, оказывается ложным, или мы чувствуем, что наше доверие было предано кем-то, кому мы были преданы. Такие важные жизненные события могут поставить нас в довольно темное или обеспокоенное место, где у нас внезапно возникает потребность найти ответы на эти вопросы.Какое бы мировоззрение мы ни имели в то время, просто не давали нам нужных ответов (или мы просто не знали о них, или они просто не нравились). Для обычного человека это сценарии, которые заставляют нас действительно искать ответы с вдумчивым и сосредоточенным вниманием. Однако есть и те из нас, кто благословлен желанием искать эти ответы без такого опыта.
Возможно, кто-то вдохновляет нас искать ответы. Зрелый человек с философским уровнем действительно увлекает нас и заставляет задуматься о том, каковы наши убеждения на самом деле и почему мы им верим.Как негативный опыт заставляет нас искать ответы, так и положительное пробуждение любопытства. Многие испытывают это в залах университетов, как государственных, так и частных. Некоторые испытывают это при знакомстве с новыми людьми и культурами. У других просто есть та личность, которая ведет их к тому, чтобы все подвергать сомнению. В конце концов, все мы в конечном итоге определяем, какому Мировоззрению мы будем следовать, либо позволяя другим формировать его за нас, либо делая это самим.
Собираем все вместе
На протяжении всего этого процесса перечисления различных влиятельных лиц нашего Мировоззрения мы видим, что формирование нашего Мировоззрения длится всю жизнь.По мере того как мы переживаем новые вещи и становимся свидетелями событий, которых еще не пережили, наше мировоззрение может измениться как незначительно, так и трансформирующим образом. В самом деле, сама концепция «трансформации» самого себя напрямую связана с принятием совершенно новых рамок видения мира или, другими словами, принятием совершенно нового мировоззрения. Организуя этих влиятельных лиц так, как это делаю я, вы должны увидеть кое-что из того пути, который мы все идем в жизни для достижения этой цели — формирования Мировоззрения.Таково было намерение.
Все мы начинаем процесс формирования мировоззрения в детстве. Именно здесь наши родители и семья оказывают наибольшее влияние на то, как мы формируем наше мировоззрение в раннем возрасте. Чем больше наши родители вкладывают в помощь нам в построении нашего мировоззрения, соответствующего их мировоззрению, тем крепче мы с ними связываем. Когда мы задаем нашим родителям, бабушкам и дедушкам вопросы о жизни, если все они дают одинаковые ответы и показывают нам, как они пришли к этим выводам, мы становимся довольно сильными в своей идентичности и становимся более стабильными в своей жизни.Однако, если наши родители мало вкладывают в нас или они рискуют пойти по этой шаткой тропе: «О, давайте просто позволим им самим это исправить», мы даже не будем знать, с чего начать. Если наши родители не воспитывают нас в том, во что они верят, мы можем потеряться, и наша связь с ними и остальной частью нашей семьи станет слабой. Если мы не можем получить от них ответы или они не хотят их давать, мы начинаем искать в другом месте.
Поскольку мы начинаем ходить в школу в раннем возрасте, учителя не так сильно влияют на нас, как наши сверстники.Однако, если узы дома разорвутся, наши учителя станут для нас более сильными фигурами родителей и будут иметь большее влияние на то, как мы формируем нашу идентичность. Тем не менее, не совсем полезно, чтобы несколько взрослых заменяли роли наших матерей и отцов, особенно в подростковом возрасте. Когда мы взаимодействуем с другими учениками и знакомимся с их идеями (какими бы простыми они ни были), те дети, которыми мы восхищаемся или которыми мы восхищаемся, начнут влиять на нас. Итак, мы видим, насколько важны учителя и друзья на самом раннем этапе развития нашего мировоззрения, и насколько важна активная роль наших родителей в формировании нашего мировоззрения.Итак, в раннем детстве необходимо поддерживать баланс, если мы хотим сформировать стабильное и стоящее мировоззрение в юности. Если вы являетесь родителем и не работали активно, чтобы научить своих детей мировоззрению, которого вы придерживаетесь, обязательно уделите время тому, чтобы рассказать им, что это такое, и побудить их задавать вопросы. Не только «что», но «почему».
Когда мы вступаем в подростковый возраст, сообщество и популярная культура начинают играть свою роль. Наши родители по-прежнему самые важные и значимые ученики.Там, где они потерпят неудачу, мы восполним этот пробел, обратившись к звездам популярных СМИ, развлечений, кино и музыки и другим популярным фигурам в культуре. Учителя начинают терять влияние по мере того, как мы становимся старше, но хорошие учителя остаются в нашей памяти, поскольку баланс с родителями и семьей утрачивается. Друзья и наша группа сверстников начинают оказывать самое сильное влияние на современную систему государственных школ, поскольку популярность и стрессы в юношеской жизни начинают сказываться на нашей личности и укреплять нашу идентичность.Мы знакомимся с мировоззрением всех этих различных групп и влиятельных лиц, и если у нас нет этой стабильной связи дома, мы можем увидеть водоворот, который представляет собой жизнь подростка, пытающегося найти ответы в этом мире.
Затем это продолжается и в нашей молодой взрослой жизни, когда мы выходим из дома в «реальный мир». Когда мы начинаем испытывать жизненный стресс, связанный с арендной платой и счетами, самостоятельно добираясь до уроков и соблюдая расписание, мы теряем дополнительное время, которое мы растратили в юности, поскольку наши дни заполнены учебой или работой.Вот где педагоги продолжают оказывать значительное влияние вместе с нашими друзьями и группами сверстников, а также наше знакомство с другими культурами и мировоззрениями на рабочем месте или в классе колледжа. Именно здесь наши источники информации оказывают наибольшее влияние на формирование нашего мировоззрения. Когда нам бросают вызов на курсах профессоров Башни Слоновой Кости и во всех книгах, которые мы читаем, или когда мы общаемся с нашими начальниками и старшими сотрудниками на работе, все эти вещи начинают быстро укреплять мировоззрение, которое мы несем на протяжении большей части нашей жизни.Затем жизненный опыт начинает оседать.
Заключение
Проходя все эти стадии, обратите внимание, что это не всегда так. У всех нас разный жизненный опыт, и мы не все воспитаны одинаково. Не все из нас ходим в школу или ищем работу. Мы не все поддаемся влиянию Голливуда и политических движений. Тем не менее, эта закономерность имеет тенденцию проявляться в отношении обычного повседневного типа «Джо Шмо». В конечном итоге все сводится к жизненному опыту и личности.Родители могут влиять, семья может, давние друзья могут, популярное влияние, различные источники информации — все это постоянно влияет на нас. В конце концов, в какой-то момент все сводится к отдельному человеку, который однажды садится и, наконец, задает себе жизненные вопросы и выясняет, во что он на самом деле верит.
Кто из этих влиятельных лиц больше всего повлиял на вас? Вы позволили популярным СМИ повлиять на вас, или какой-то профессор или преподаватель действительно повлиял на вас? Действительно ли ваши убеждения являются вашими собственными, или вы позволили кому-то другому сформировать их в вас? Вы знаете, почему вы верите в то, что делаете? Я надеюсь, что прочтение этой и других статей из этой серии побудило вас задуматься над этими вопросами.Возможно, наиболее важным из всего является то, комфортно ли вам, когда в вашем Мировоззрении находится кто-то другой, или вы думаете, что вам лучше сделать это самому?
Мировоззрение — обзор | Темы ScienceDirect
Западное мировоззрение
Западное мировоззрение социальной работы доминирует в литературе. Международная федерация социальной работы (IFSW) и Международная ассоциация школ социальной работы заявляют, что социальная работа — это профессия и академическая дисциплина. Это западное мировоззрение определяет социальную работу как продвижение.
социальные изменения, решение проблем в человеческих отношениях, а также расширение прав и возможностей и освобождение людей для повышения благосостояния. Используя теории человеческого поведения и социальных систем, социальная работа вмешивается в те моменты, когда люди взаимодействуют со своим окружением. Принципы прав человека и социальной справедливости имеют основополагающее значение для социальной работы.
(IFSW, 2012, стр. 1)
Определения представляют собой единый взгляд и игнорируют мировоззрение коренных народов на социальную работу, давая западным взглядам власть над взглядами коренных народов.Инклюзивный и поддерживающий язык, используемый в этом определении, делает знания однородными и отображает универсальное мировоззрение социальной работы. Сьюпол и Джонс (2004) утверждают, что это определение не претендует на универсальное мировоззрение:
Степень, в которой школы социальной работы соответствуют глобальным стандартам, будет зависеть от потребностей развития любой данной страны / региона и статуса развития. профессии в любой стране, что определяется уникальным историческим, социально-политическим, экономическим и культурным контекстом.
(Sewpaul and Jones, 2004, стр. 226)
В стране, где коренные народы были колонизированы, это определение принимается большинством в качестве индикатора для измерения стандартов качества социальных работников и социальной работы, несмотря на местные реалии. быть другим. Подход к доминированию в дискурсе можно рассматривать как колонизацию тонкими словами. Его можно укрепить с помощью законодательства, государственной политики, академической успеваемости, правил и положений.Это усиление можно увидеть в Законе о регистрации социальных работников 2003 года и при поддержке Регистрационного совета социальных работников, который «сохраняет акцент на введении обязательной регистрации, что было одной из основных рекомендаций, вытекающих из обзора Закона 2011/12 г.» (Парламент Новой Зеландии, 2013 г., стр. 3).
Традиционно для маори не существовало социальной работы, вместо этого маори проявляли такие ценности, как манааки (заботиться), ароха, кайтиакитанга и рангатиратанга (лидерство) при работе с тангата (людьми).В последние десятилетия появилось понятие социальной работы маори, и такие ценности, как манааки, ароха, кайтиакитанга и рангатиратанга, отразили общие интерпретации социальной работы, которую маори выполняли в основном как волонтеры. «Для многих маори добровольная деятельность (акты служения людям ванау, хапу и иви) рассматривалась как выражение философских краеугольных камней маори коллективного сознания, коллективного благополучия и коллективной ответственности» (Gray, 2002, p. 41). Грей (2002) утверждал, что понятие «волонтерская работа» не имеет традиционного эквивалента, а предоставление услуг людям является всеобъемлющей философией в семьях маори, в которой переплетаются ценности волонтерской работы и социальной работы.Об этом свидетельствуют результаты исследования волонтерской деятельности, проведенного Новозеландским офисом по делам сообществ и добровольцев.
Маори чаще, чем не маори, были вовлечены в неоплачиваемую деятельность вне домашнего хозяйства … Тот факт, что женщины маори выполняют больше неоплачиваемой работы вне дома, чем мужчины маори, объясняется особыми гендерными ролями, которые приписываются женщинам на мараэ.
(Управление общественного и добровольного сектора, 2007, стр. 3)
Профессиональная социальная работа, согласно данным Ассоциации социальной работы Аотеароа Новой Зеландии (ANZASW) (2008, стр.2), «ориентирована на решение проблем и изменение. Таким образом, социальные работники являются проводниками изменений в обществе и в жизни людей, семей и сообществ, которым они служат ». Кутер (2013, стр. 1) описывает профессионального социального работника как человека, который помогает «управлять своей повседневной жизнью, понимать и адаптироваться к болезни, инвалидности и смерти, а также получать социальные услуги, такие как здравоохранение, государственная помощь и юридические услуги. помогать.» Помощь людям может быть сложной задачей, если их мировоззрение не западное.Харт (2010) определяет эту проблему и соглашается с тем, что
в любом обществе существует доминирующее мировоззрение, которого придерживается большинство членов этого общества … Альтернативные мировоззрения действительно существуют, но они обычно не поддерживаются большинством общества … Работа с коренными народами часто требует, чтобы мы действовали вне доминирующего мировоззрения, присущего социальной работе на международном уровне, особенно на территориях четвертого мира.
(Hart, 2010, стр. 2)
Отчет об исследовании, Puao-te-Ata-Tu , показал, что правительственные агенты, работающие в Департаменте социального обеспечения, были расистскими, а качество обслуживания маори было низким. бедные (Министерский консультативный комитет по взглядам маори для Департамента социального обеспечения, 1986).Исследование побудило министра парламента пересмотреть Департамент социального обеспечения и принять идею вовлечения ванау при работе с отдельным клиентом. В 1989 году был принят Закон о детях, молодых людях и их семьях (CYPF), который привел к созданию Семейной групповой конференции (FGC). «Социальные работники отреагировали на проблемы Puao-te-Ata-tu , разработав методы, которые поощряли большую степень участия семьи / ванау как в принятии решений, так и в отношении ухода за хапу и расширенными родственниками» (Коннелли, 2004 г. , п.2).
FGC — это встреча молодого человека, оскорбившего своего ванау, потерпевших и других людей. Другие люди могут представлять различных специалистов, таких как полиция, консультант, социальный работник или адвокат по делам молодежи, которые участвуют в обсуждениях с ванау, жертвой и молодежью. Официальная встреча организована государственными агентами и состоит из трех основных этапов. Первый этап — это время, когда профессионалы сообщают whānau о своих проблемах и проблемах. На втором этапе ванау дается время, чтобы обсудить полученную информацию и разработать план решения проблем или проблем.На третьем этапе план представляется специалистам, жертвам и другим лицам и модифицируется в соответствии с ситуацией с учетом отзывов / предложений всех участников (Ребенок, молодежь и семья, 2013).
Понимание мировоззрения коренных народов, утверждает Харт (2010, стр. 1), важно для развития теории социальной работы и практики социальной работы. Соответственно, «наше мировоззрение влияет на наши системы убеждений, принятие решений, предположения и способы решения проблем». С точки зрения маори, ценности и практики основаны на матауранге, и люди всегда являются частью коллектива, который разделяет свои жизненные проблемы.Права на личную конфиденциальность уступили место правам whānau, что означает, что социальный работник мог делиться с whānau социальными проблемами клиента. Использование процесса FGC изменило социальную работу с клиентами-маори.
Академические учреждения формируют преимущественно западное мировоззрение социальной работы. Дамбрилл и Грин (2008) обсуждают, как эти учреждения изменились после того, как они осознали свое угнетающее влияние на коренные народы в результате предоставления образовательного контента, который не признал ценность знаний коренных народов.«Следовательно, академии социальных работ, особенно в Канаде, Соединенных Штатах, Центральной и Южной Америке, а также в Австралии и Новой Зеландии, пытаются включить знания коренных народов в учебные программы» (Дамбрилл и Грин, 2008 г., стр. 490). Они утверждают, что академические учреждения должны быть
чуткими к тому, как европейские знания доминируют в академии, и [стать] открытыми для подрыва этого доминирования. Разрушение имеет решающее значение, потому что, несмотря на приверженность разнообразию и инклюзивности, большинство академий социальной работы продолжают преподавать с евроцентрической точки зрения таким образом, чтобы увековечить колонизацию не только коренных народов и знаний, но и всех других народов и знаний, выходящих за рамки доминирующих. Европейская парадигма.
(Дамбрилл и Грин, 2008 г., стр. 490)
Определение того, кто является социальным работником, с точки зрения коренного населения, диктуется не только академическими учреждениями или правительством. Кроме того, профессионалы и зарегистрированные социальные работники не должны быть единственными экспертами в практике социальной работы с коренными народами. Дамбрилл и Грин (2008, стр. 500) утверждают, что академическая квалификация, такая как докторская степень, не сигнализирует об автоматической способности «понимать или преподавать знания коренных народов» и не означает способности оценивать обучение студентов в этой области.Даже те, кто имеет докторскую степень по феминистской или постмодернистской эпистемологии, не могут полагаться на понимание или преподавание знаний коренных народов ». Они говорят, что происхождение этих академических квалификаций для европейцев может ограничить их понимание коренных народов, и предлагают «коренным общинам и мыслителям, а не европейским мыслителям, какими бы прогрессивными они ни были, определять знания коренных народов, которым следует преподавать, и стандарты для применяться при оценке этого обучения », передавая контроль над знаниями коренных народов в руки коренных народов.Дамбрилл и Грин (2008, с. 500) объясняют, что их позиция состоит не в том, чтобы удерживать ученых-аборигенов от достижения высоких результатов в академических кругах, а в том, чтобы оговорить, что «докторская степень — не единственный критерий в академических кругах, который должен учитываться при определении того, кто будет признан ученым. Профессор, обладающий ценными знаниями ». Впоследствии эксперты сообщества, которые могут не обладать формальной квалификацией или считаться профессионалами, но признанными за их работу с сообществами коренных народов, могут войти в эту область знаний.Белл (2006, стр. 16) показывает, как дисциплина социальной работы для маори может помочь в объединении многих сообществ. По ее словам, «если облегченный процесс деколонизации играет роль в исцелении последствий колонизации среди маори и других коренных народов, тогда социальная работа может стать контекстом, в котором можно получить доступ к этому облегченному процессу деколонизации».
Мировоззрение и образ жизни
Мировоззрение и образ жизни
Подкастс участием Ann Taves (21 мая 2018 г.).
Беседовал Дэвид Дж. Робертсон.
Переписано Хелен Брэдсток .
Аудио и стенограмма доступны по адресу: Taves _-_ Worldviews_and_Ways_of_Life_1.1
Дэвид Робертсон ( DR ): Мне очень приятно быть здесь сегодня с профессором Энн Тэйвз с факультета религиоведения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Думаю, это не ее первый визит на подкаст, но первое полнометражное интервью.Это должно быть интересно. Она здесь, в Эдинбурге, чтобы читать Лекций Ганнинга , и именно отсюда возникла тема сегодняшнего обсуждения: разговоры о мировоззрении и образе жизни. Итак, давайте начнем с того, о чем мы уже говорили, прежде чем я начал записывать: немного, может быть, о том, как мы пришли к этой позиции? Вас попросили вести блог? Это правильно?
Энн Тейвс ( AT ): Да. Я имею в виду, на самом деле вопрос в том, почему я вообще говорю о мировоззрении и образе жизни или изучаю религию как мировоззрение и образ жизни? Это было темой лекций Ганнинга.И, как мы только что говорили раньше, я был в значительной степени тем, что я бы назвал «анти-дефиниционалистом», когда дело доходит до определения религии для исследовательских целей. Потому что я считаю очень важным, чтобы мы смотрели на то, как люди понимают религию — и другие связанные с ней термины — на местах. Но меня как бы вынудили сделать более конструктивный шаг — внутренне вынудить — после того, как меня попросили написать в блоге сообщение о методе для проекта нерелигии и светскости. И меня просто поразило, что говорить о нерелигии и религии, даже не указывая более крупную категорию или рубрику, под которые подпадают эти два пункта, было отчасти абсурдным.
DR : Да.
AT : Так я начал искать. . . пытаюсь ответить на вопрос: что общего у этих двух вещей? И такие термины, как мировоззрение и образ жизни, на самом деле очень широко используются в качестве всеобъемлющей основы для обсуждения этих вещей. Фактически, первое возражение Лоис Ли против языка мировоззрений было то, что он был слишком банальным и слишком обычным.
DR : Да. И возникает вопрос, почему это обычное и банальное.. . ? Это должно быть хорошо, правда? Может быть, это часть протестантской идеи, что религия должна быть особенной и обособленной? Но . . .
AT : Да, я думаю, что ее беспокоит — и я вкладываю слова ей в рот. . .
DR : Да. Она может ответить, если захочет!
AT : справа. Я думаю, что ее беспокойство было на самом деле тем, что поднималось в вопросах и ответах после моей первой лекции. Легкость, с которой повседневные определения мировоззрений могут быть перепутаны с тем, что мы хотели бы под этим подразумевать в более техническом смысле.И это одна из наших проблем с определением религии.
DR : Да. Даже очень.
AT : Мы конструируем эти технические определения того, что мы имеем в виду, но тогда каждый имеет свои значения на местах. То, что я спорю с мировоззрением и образом жизни, состоит в том, что мы действительно можем определить их так, как я утверждаю, может стабилизировать их, так что мы не можем стабилизировать определения религии; что религия — сложное культурное понятие, у нее просто нет постоянного значения.Но мировоззрение и образ жизни — я думаю, что мы можем укоренить их в перспективе и показать, как способность на самом деле формировать мировоззрение — это то, что могут делать люди, основанные на развитых способностях, в основном, которые возникают из всех мобильных организмов, имеющих жизненный путь.
DR : Это действительно интересно. Я собираюсь попросить вас провести нас через кое-что из этого — хотя и в урезанном виде — позже. Но сначала я думаю, нам нужно немного отступить.( 5:00 ) Итак, расскажите нам, что вы подразумеваете под мировоззрением. И вы тоже используете этот термин «образ жизни».
AT : Есть
DR : J Расскажите слушателям немного о том, что мы подразумеваем под этими терминами.
AT : Что ж, позвольте мне начать с мировоззрения. По сути, существует целый ряд ученых о мировоззрении. В Бельгии до сих пор существует междисциплинарная группа, и есть ученые и антропологи, такие как Андре Друджерс из Амстердама, которые работали над этой идеей мировоззрения.И вообще, в этой литературе они определяют мировоззрение с точки зрения того, что я бы назвал Большими вопросами. Итак, вид. . . они используют фундаментальные термины, которые вы слышите в философии. Так что такие термины, как онтология, эпистемология космологии, антропология, аксиология и праксиология — это большие философские концепции. Но мы можем перевести их на очень повседневный язык.
DR : ОК.
AT : Вот как мы с Эгилем Аспремом работаем над определением мировоззрения: с точки зрения ответов на эти шесть фундаментальных вопросов.
DR : Не могли бы вы дать нам пару примеров в качестве вопросов?
AT : Да, поэтому вопросы по онтологии будут такими: «Что существует? Что на самом деле? » И вопрос космологии начнется с самого основного вопроса: «Кто я?» или «Кто мы?» Но это расширилось бы до «Откуда мы пришли?» и «Куда мы идем?» Вопрос антропологии звучал бы так: «Какова наша ситуация? В какой ситуации мы оказались? » Затем его можно было бы расширить до: «Какова наша природа?» Но два действительно важных вопроса.. . . Что ж, позвольте мне дать вам их все. Потому что в отношении «Что реально?» и «Кто мы?», «Куда мы идем?» вопросов, следующий вопрос — вопрос эпистемологии: «Откуда мы это знаем?» И поэтому вы получаете ответы от людей, науки или откровений — и тому подобное. Но затем, после того, как мы рассказали о нашей ситуации, встал вопрос о целях и ценностях. Итак, «Что хорошего или к какой цели мы должны стремиться?» И, наконец, главный вопрос пути или действия: «Как мы туда доберемся?» Итак, мы утверждаем, что можем использовать этот набор вопросов, чтобы раскрыть множество вещей.От — на очень высоком уровне — учений широкой традиции до того, как люди ответят на этот вопрос.
DR : Значит, у этого есть реальная масштабируемость?
AT : ровно
DR : Итак, они встраиваются в. . . правильно ли я понимаю, что ответы на эти вопросы воплощаются в образ жизни? Это было бы правильно?
AT : Да.Мы утверждаем, что все мобильные организмы, в широком смысле, имеют то, что мы можем представить себе как образ жизни. Но чем базнее организм, тем базнее образ жизни. Выбора не будет. Разумеется, не будет никаких мысленных размышлений об образе жизни, верно? Итак, образ жизни может усложняться. Но мы видим в этом один из способов говорить о людях как о развитых животных. И мы хотим подчеркнуть как преемственность, так и различие. Мы пытаемся действовать по принципу «и / и», а не «или / или».
DR : ОК
AT : Но тогда вы спрашивали, для людей, какое отношение мировоззрение имеет к образу жизни?
DR : Да. А до этого, как большие вопросы связаны с образом жизни и мировоззрением? Какая там прямая связь?
AT : Да. Хорошо. Мы отличаемся друг от друга — и я продолжаю повторять, что мы, потому что Эгиль Аспрем и я совместно работали над некоторыми из этих работ.Мы говорим о способах выражения мировоззрения. И мы проводим различие между разыгрываемыми, артикулированными и изложенными мировоззрениями. ( 10:00 ) Таким образом, повествование будет включать как устные традиции, в которых вещи запоминаются, так и текстуализированные традиции. Но прежде чем вы перейдете к пересказу, мы только что сформулировали мировоззрение на языке. Затем, до этого, мы получили тот факт, что их можно разыграть, даже не артикулируя. И все эти уровни могут работать вместе и взаимодействовать. Итак, на уровне исполнения у вас в основном есть имплицитные мировоззрения, встроенные в образ жизни.И, как исследователи, мы должны были бы извлекать или предполагать ответы на важные вопросы, основываясь на действиях и поведении людей.
DR : Итак, это воплощенный, пересчитанный уровень — это где мы начинаем говорить о мировоззрении, а не просто об образе жизни?
AT : Да. да. Итак, мы утверждаем, что, по сути, вы должны обладать культурными способностями, прежде чем вы сможете иметь мировоззрение. Итак, мы использовали различие, с одной стороны, между естественными и культурными возможностями, которое мы заимствуем из экологической психологии, а также различие между развитыми и культурными схемами, которые являются психологической конструкцией тех видов представлений, которые мы имеем для вещей.А различие между естественным и культурным состоит в том, что естественные возможности или развитые схемы очень важны. . . существует прямая связь между организмом и окружающей средой.
DR : ОК.
AT : Нет никакой опосредованной возможности для какой-то культурной конструкции, о которой организмы договорились вместе. Только когда мы дойдем до людей, насколько нам известно, у нас будут более коллективные соглашения о вещах, которые можно отделить от окружающей среды.
DR : Итак, может быть, что-то вроде: вы думаете, что видели что-то в тени, и вы напуганы — так что это может быть схема: есть воплощенная реакция страха. Но то, что вы увидели привидение, значит, вы боитесь призраков — это скорее мировоззрение? Или хотя бы часть образа жизни?
AT : Да. Это рисунок в культурной схеме о призраках.
DG : Коллективная культурная схема.
AT : И наложение этого поверх развитой схемы того, когда вы слышите звук — или, что более вероятно, когда вы воспринимаете какое-то движение, верно? У нас сформировалась склонность предполагать, что там есть что-то одушевленное — что-то потенциально опасное.
DR : И, возможно, тогда это также будет связано с более широким взглядом на мир. Потому что для того, чтобы иметь дело с призраками, у вас должно быть какое-то представление о выживании после смерти или каких-то нереальных существ.
AT : Совершенно верно. Правильно. Таким образом, вы можете расширять это по шагам, чтобы развить более широкую базовую концепцию того, как они будут описывать то, что реально в мире.
DR : Правый. И что хорошо в этой схеме, я думаю, это то, что это определенно восходящий подход к этому, а не нисходящий.Итак, мы начинаем с самых простых ответов, а затем строим на их основе мировоззрение.
AT : Ну, конечно, если вы хотите начать с уровня индивидуального поведения. Но на самом деле мы можем начинать в самых разных местах, пока — я бы сказал, — поскольку мы несем ответственность за характер наших отправных точек. Я имею в виду, пока мы заранее об этом говорим.
DR : Да.
AT : Я думаю, как вы знаете, я преподавал курсы типа «Сравнение мировоззрений», которые являются попыткой преодолеть некоторые проблемы парадигмы мировых религий.
DR : Который должен быть хорошо знаком нашим слушателям! (Смеется).
AT : Совершенно верно. Вот почему я поднял это в этом контексте, потому что решил, что это может быть актуально.
DR : Да.
AT : Но там, начиная с описания учений так называемой мировой религии в учебнике ( 15:00 ), мы можем попросить учащихся проанализировать это с точки зрения больших вопросов, чтобы дать себе базовые знания. своего рода рамки.И затем я могу проанализировать или показать их, используя исторические материалы, как со временем эти ответы на важные вопросы превратились в своего рода, скажем, ортодоксию или какую-то традицию, включая рассмотрение властных структур и властных структур, которые заставит это слиться в то, что есть. Но это не означает, что каждый человек или все группы придерживаются этого. Но мы все еще можем начать с этого уровня и использовать эту концепцию таким образом, — это моя точка зрения.
DR : Как… и ответом на это может быть просто: «Вовсе нет.- но как это хоть как-то связано с тем, что пытался сделать Ниниан Смарт , или, по крайней мере, с тем, что, по словам Ниниана Смарта, он пытался сделать?
AT : справа. Нет, думаю, отношения есть. И я думаю, что важно видеть как то, что сделал Ниниан Смарт, что я считаю исключительно позитивным, так и ограниченность того, что он сделал. Итак, действительно положительный момент заключается в артикуляции в некоей непонятной статье (о которой, как мне кажется, должны знать многие из нас), в которой он, по сути, утверждал, что мы должны отнести философию религии к философии мировоззрений: история религий, в широком смысле: Religionsgeschichte , история мировоззрений и антропология религии, антропология мировоззрений.В общем, весь спектр методологий, которые мы склонны использовать в религиоведении, он видел как часть обширной концепции изучения мировоззрения. И я думаю, что это действительно круто.
DR : Да.
AT : Но ограничение в том, что он никогда не определял, что он имел в виду под мировоззрением. А он просто перенес свои шесть, а позже и семь измерений религии из изучения религии в изучение мировоззрения. И для меня это было своего рода импортом.. . . Вы знаете, это была почти новая версия миссионерского движения — взять наше определение религии и теперь применить его к мировоззрению.
DR : Да. И выбор размеров и их относительный вес как бы говорит об этом. Итак, вы знаете, что есть «тексты». . . Но также, я не уверен, где именно, но он определенно заявляет в какой-то момент, что, очевидно, хотя мы можем рассматривать все эти вещи как мировоззрения, некоторые из них «более глубокие, чем другие».Итак, косвенно он все еще проводит различия!
AT : справа. Правильно.
DR : И, конечно же, христианство будет на вершине! То есть, я бы положил на это деньги.
AT : справа. Но часть нашего движения к рассмотрению мировоззрения и образа жизни с эволюционной точки зрения — это попытаться перевернуть это с ног на голову. Потому что он превращает в высшей степени рационализированные, систематизированные мировоззрения, которыми занимаются философы и теологи, и, возможно, даже учебники мировых религий, в продукт очень высокого качества, который может иметь, а может и не иметь такое отношение к повседневной жизни.Или, по крайней мере, это очень открытый вопрос — как утверждают исследователи так называемой живой религии — того, как люди живут своей повседневной жизнью. Итак, часть того, что мы видим, работая снизу вверх, — это множество открытых вопросов о том, насколько интегрированы установленные людьми мировоззрения? Нужно ли им их четко формулировать, чтобы функционировать? Или может быть достаточно инкультурированного образа жизни до тех пор, пока он не будет оспорен тем или иным образом? Тогда, возможно, людям придется начать думать об этом, исходя из принципа служебной необходимости ( 20:00 ).
DR : И это то, что меня действительно интересует. Вы что-то об этом сказали. Я думаю, вы сказали, что мы можем видеть внешнее. . . . Какой термин вы использовали? Схемы. Мы очень легко можем увидеть схемы, которые являются внешними по отношению к нам, в других обществах. Но увидеть схемы в наших собственных очень сложно. Это, очевидно, то, чему мы, как ученые, обучены, и мы стараемся привить и нашим ученикам. Но я думал об этом. . . Меня очень интересует идея бросить вызов идее веры в изучении религии.Я думаю, что здесь делается большой упор: «Это убеждение людей». И, когда вы действительно смотрите на данные на местах, люди не согласуются с подобными вещами. Убеждения — это не перформативные утверждения, которые люди держат в уме, а затем действуют в соответствии с ними. И, например, у нас есть такие идеи, как ситуативное убеждение, когда люди будут по-разному реагировать в разных обстоятельствах. И я, конечно же, часто видел это в своих исследованиях Нью Эйдж и теорий заговора. Что, например, люди, страдающие хронической болью, изменят свое положение или займут несколько позиций в отношении альтернативных методов лечения.Они могут быть наиболее научно мыслящими людьми, но когда обезболивающие перестают работать, они готовы сослагательно высказывать идею о том, что иглоукалывание, цветочные средства или что-то еще могут сработать. И затем, конечно, если это сработает, они могут полностью изменить свое мировоззрение.
AT : Или , а не полностью.
DR : Так что да. Вы можете видеть, где я. . .
AT : Да.Потому что они могут одновременно посещать более обычного врача или целителя. Так что, возможно, люди действительно смогут поддерживать множественные варианты имплицитных мировоззрений, не задумываясь о конфликтах между ними по-настоящему, до тех пор, пока конфликты не вызывают у них никаких проблем.
DR : Итак, видим ли мы людей, перемещающихся между разными схемами? Значит, они переходят между разными мировоззрениями? Или мы можем согласовывать несколько схем в разных контекстах?
AT : Да.То есть я думаю. . . . Позвольте мне ответить на это двумя способами. Потому что, если мы подумаем о других животных, которые развили бы схемы, на которые среда могла бы указывать определенное поведение в определенных ситуациях, тогда, конечно, мы могли бы подумать, что на этом базовом уровне у нас есть множество схем, которые по-разному управляются различные экологические контексты. Каждый из этих контекстов будет представлять собой целую ситуацию, в которой мы могли бы спросить: «В какой ситуации мы находимся?» «Какова цель в этой ситуации?» «Что можно сделать для достижения цели?» «Что за действие.. .? » Итак, в этом смысле мы могли бы начать конкретизировать микромир или микроответы на важные вопросы в этом контексте. Я думаю, что отчасти нужно помнить о том, что ответы на важные вопросы не должны быть громоздкими! (Смеется).
DR : (Смеется). Нет, конечно! Да!
AT : Но на более человеческом уровне, я думаю, другой способ подумать о вашем вопросе, который снова возник в наших обсуждениях, заключался в том, чтобы подумать о нем в отношении людей, которые являются бикультурными.И мне кажется, что есть аналогия между людьми, имеющими дело с медицинскими проблемами, переключаясь между исцеляющими рамками, мы могли бы это назвать, что может развиться в единый последовательный образ жизни, а может быть просто этими частичными вещами. что люди могут переключаться между ними. И если мы посмотрим на людей с двумя культурами, их заставят говорить на разных языках, задействовать различные наборы культурных схем, когда они со своими родственниками, откуда бы они ни приехали, или когда они со своей семьей в новом доме. контекст.
DR : Интересно — я не упомянул об этом, когда мы говорили об этом вчера ( 25:00 ) — но, поскольку я долгое время работал в сфере общественного питания, я знал много людей с двумя культурами. . И некоторые из них сказали мне, что их личность немного отличается, когда они находятся в другом регистре. Например, я знала свою подругу-французку, которая говорит, что она гораздо более саркастична и агрессивна со своей французской семьей и друзьями, чем, например, со своими шотландскими друзьями.
AT : Да, я думаю, это действительно интересно. Я имею в виду, что она отвечает на большой вопрос: «Кто я?» С разными ответами.
DR : По-другому.
AT : Да. И я думаю, что нам нужен язык, чтобы понять это, исследовать это. И в этом я вижу силу этого подхода. Мне кажется, есть много разных направлений, которые мы можем использовать для изучения.
DR : Да.Так что давайте тогда займемся этим — я имею в виду вкратце. В лекциях Ганнинга вы довольно часто использовали пример АА. И я подумал, что вы могли бы, может быть, довольно быстро рассказать нам об этом — просто чтобы у слушателей был реальный пример для игры. Итак, возьмем Анонимных Алкоголиков — группу в таком роде. . . вы знаете: спорный случай, крайний случай, говорим ли мы о чем-то религиозном или нет. Итак, давайте посмотрим, как работает эта модель.
AT : Да, именно поэтому я выбрал его.Потому что они непреклонны в том, что они не религия.
DR : Абсолютно да.
AT : Итак, Анонимные алкоголики счастливы называть себя духовными. . . как воплощение духовного пути или духовного образа жизни. Они на самом деле используют язык своего образа жизни или называют себя товариществом. Вот почему я их выбрал. Кроме того, я знаю о них довольно много — так что мне показалось, что это пример, который я мог бы изложить.
DR : Да.Что помогает!
AT : Да. Поэтому часть того, что я сделал на первой лекции, было просто показать различные способы, которыми мы можем это проанализировать. Итак, в первой лекции я говорил об этом на каком-то высоком уровне, как о группе с официальными документами, которые описывают, кто они в совокупности. И поэтому я использовал Двенадцать шагов и Двенадцать традиций, которые являются их основными определяющими документами, чтобы проанализировать, как они как организация официально ответят на важные вопросы.Они официально не отвечают на важные вопросы, но как мы, , могут дразнить их ответы на важные вопросы, основанные на их официальных документах.
DR : ОК
AT : И затем я указал, что мы можем посмотреть, мы можем провести этот анализ в двух направлениях. Мы могли бы сравнить это с другими группами в культуре, чтобы помочь нам лучше понять, как они пытались позиционировать себя и почему они хотели настаивать на том, что они не являются религией.И в основном потому, что они хотели доказать, что их путь совместим с любой религией или вообще ни с какой религией. Но затем я показал еще одну вещь: как мы можем смотреть на подгруппы в АА или отдельные рассказы в АА и исследовать, в какой степени они соглашаются с официальной концепцией, что это общий духовный путь. Итак, я сослался на некоторые из различных комментариев: феминистские, индейские, буддийские, ведантские — вы знаете. Есть все эти разные попытки перевести Двенадцать шагов в другие религиозные или духовные термины.
DR : Да.
AT : Вот то, что я рассматривал на первой лекции: некоторые общие вещи, которые мы могли бы сделать. Затем во второй лекции, когда я рассмотрел эволюционную перспективу или основы мировоззрений, я использовал своего рода многоуровневый подход — развивая идею о том, что у нас есть эти развитые схемы, а также интернализованные культурные схемы, которые могут привести нас к очень серьезным действиям. быстро, не задумываясь об этом — чтобы разлучить Билла Уилсона — одного из основателей АА — то, что он назвал бы своего рода дилеммой пьющих, которая состоит в том, что они могут сделать этот осознанный выбор бросить пить, а затем немедленно подорвать это, когда кто-то протягивает им напиток ( 30:00 ).И поэтому я использую это, чтобы различать разыгрываемый образ жизни, который звучит как «Я алкоголик», и четко сформулированный образ жизни: «Я собираюсь бросить пить, и у меня есть сила воли, чтобы сделать это». ».
DR : Да.
AT : В прошлой лекции я рассмотрел возникновение АА и трансформацию алкоголиков как процессы изменения как групп, так и отдельных лиц. И поэтому я использовал этот вид анализа для анализа того, что было до и после, а также перехода от одного образа жизни к другому.
DR : Сейчас мы приближаемся ко времени. Итак, давайте перейдем к более важным вопросам. Итак, мы говорим, может быть, об идее включить RS в более широкий круг мировоззрений и прочего — с чего мы начали. Но почему это так важно сейчас? Что . . . ? Я думаю, это имеет сильный резонанс в этой области и в целом проблемы в этой области. И было бы хорошо об этом поговорить кратко.
AT: Думаю, я разочарован этой областью на нескольких уровнях.Меня разочаровывает то, что мне кажется постоянным вращением колес, когда дело касается критики. У нас очень хорошо получается критиковать и выявлять все проблемы, связанные с концепцией религии. Но я не вижу, чтобы для решения проблем было приложено столько усилий. И слишком часто я вижу, что потенциальные решения, включая это, закрываются, потому что это может подорвать наши отделы и, так сказать, наш образ жизни. Таким образом, даже если он может быть более ответственным интеллектуально, более последовательным интеллектуально, мы хотим защитить наш образ жизни, и поэтому мы не собираемся туда идти, и мы собираемся продолжать крутить колеса концептуально.Меня это действительно расстраивает — хотя я, конечно, понимаю, почему мы можем защищать свой образ жизни. Другое разочарование для меня — это своего рода поляризация между людьми, глубоко приверженными гуманистическому подходу к изучению религии, и людьми, которые пытаются подойти к ней с более научной или когнитивно-научной точки зрения. И я действительно считаю себя пытающимся связать мост между этими двумя. И я решительно утверждаю ценность обоих подходов. Это не что-то типа того или иного.Итак, взятый вместе, этот вид подхода, о котором я говорю, разработан, во-первых, чтобы предложить конструктивный вариант, чтобы вывести нас за рамки простой критики, и, во-вторых, чтобы соединить гуманистический и научный подходы. Так что я просто хотел бы, чтобы больше из нас участвовало как в наведении мостов, так и в попытках решить некоторые из наших проблем.
DR : Да. И мы в проекте «Религиоведение». . . Это две проблемы, которые мы — ну, конечно, первая: выход за рамки критики — это то, к чему мы подошли довольно серьезно.И междисциплинарный. . . Я имею в виду, что у нас много психологов и когнитивных людей. Но надлежащая междисциплинарная работа, которая в равной степени строится с обеих сторон, встречается редко. Но я думаю, что это тоже непросто. Возможно, это наследие способа толкования поля. Мы уже. . . вы знаете, мне пришлось изучать социологию и историю как методологии, просто в стандартном контексте RS. Итак, чтобы начать изучение психологии и когнитивных исследований, это большая задача!
AT : Полностью согласен.Это большой вопрос. И я был заинтересован в этом, потому что нахожу это действительно увлекательным. Так что, если у людей нет внутреннего любопытства, побуждающего их к этому, то вы знаете, что это, вероятно, будет довольно сложно ( 35:00 ). Но, с другой стороны, люди могут быть более открытыми для тех, кто заинтересован в этом. Но вторая вещь, о которой, я думаю, нам нужно действительно знать, — это то, что люди, занимающиеся наукой, обычно работают совместно, а люди, занимающиеся гуманитарными науками, обычно работают с одним автором.
DR : Да.
AT : Итак, чем больше я пытался выполнить такого рода работы по наведению мостов, тем больше я сотрудничал. Итак, только что в этом разговоре я упомянул Эгиля Аспрема. Я работал с ним над этим мировоззрением и образом жизни, но когда мы решили разработать некоторые из этих идей для психологического журнала, мы привлекли психолога в качестве третьего автора. И мы также работаем над другим докладом, который я собираюсь сделать на конференции по эволюции религии, где я собираюсь спорить: почему мы говорим об эволюции религии? Разве мы не должны говорить об эволюции мировоззрения и образа жизни? Но в любом случае мы привлекаем эволюционного психолога в качестве третьего автора этой статьи.Итак, я хочу получить такой совместный вклад, чтобы быть более уверенным в том, что способы, которыми мы продвигаем эти идеи, имеют смысл для людей, которые глубоко инвестируют в эти конкретные области. Так что одно дело — набросать большую картину, а другое — представить ее с такими деталями, которые хотели бы иметь люди, специализирующиеся в этой области.
DR : Безусловно. И, знаете, я сам знаю это по тому ограниченному количеству сотрудничества, которое у меня было в плане работы с учеными теории заговора.Потому что, как человек, изучавший религиоведение, я в этом меньшинстве. Вероятно, 50% из них — психологи, а может, 30% — политология — так что методологии очень разные. Но совершенно очевидно, что следующий этап обучения должен включать в себя критику, анализ и понимание терминов гуманитарных наук вместе с типом способности генерировать данные и количественным анализом, который они могут сделать. Итак, да, я думаю, что звонок очень своевременный. И, вероятно, это хорошее место, чтобы уйти после такого воодушевляющего призыва к действию!
AT : Да.
DR : Итак, я просто хочу сказать — большое спасибо за то, что присоединились к нам сегодня, Энн. Спасибо.
Информация для цитирования: Тейвс, Энн и Дэвид Дж. Робертсон. 2018. «Мировоззрение и образ жизни», Проект религиоведения (стенограмма подкаста) . 21 мая 2018 г. Транскрибирует Хелен Брэдсток. Версия 1.1, 16 мая 2018 г. Доступно по адресу: https://www.religiousstudiesproject.com/podcast/worldviews-and-ways-of-life/
Если вы обнаружите какие-либо ошибки в этой транскрипции, сообщите нам об этом по адресу editors @ Religiousstudiesproject.com. Если вы хотели бы помочь с расшифровкой архива проекта религиоведения или знаете какие-либо источники финансирования более широкого проекта транскрипции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Спасибо за чтение.
Это произведение находится под лицензией Creative Commons Attribution- NonCommercial- NoDerivs 3.0 Unported License. Мнения, выраженные в подкастах, являются взглядами отдельных авторов и не обязательно отражают взгляды ПРОЕКТА РЕЛИГИОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ или Британской ассоциации по изучению религий.
Три фактора, формирующие наше мировоззрение
На нашем недавнем симпозиуме «Вся жизнь» Хосе Филип из Международного министерства Рави Захариаса представил концепцию мировоззрения. У всех есть мировоззрение, признают они это или нет. Чаще всего они не говорят об этом просто потому, что не знают. Это потому, что спрашивать кого-то, каково его или ее мировоззрение, похоже на попытку попросить рыбу описать, насколько мокрая вода. Вы понятия не имеете, что это такое; вы просто в нем.Тем не менее, ваше мировоззрение определяет все в вас.
Что такое мировоззрение?
Прежде всего, давайте определимся, чем это не является. Дело не в физической реальности мира, в котором мы с вами живем; это наука. Вместо этого вот что такое мировоззрение и что оно значит для нас:
- Это метафизическая, философская или идеологическая реальность мира, в котором мы с вами живем.
- Он определяет то, как мы живем, а не то, где мы живем.Он определяет, почему мы живем, ради чего живем, что ценим, что отвергаем, к чему мы увлечены и что ненавидим.
Что составляет наше мировоззрение?
Помимо понимания того, что наше мировоззрение делает для нас, нам также необходимо знать, что есть несколько категорий, которые формируют наше мировоззрение:
- Когнитивный: Как мы думаем . Это главное. Не позволяйте никому отнимать это у вас или у следующего поколения, которому вы уделили привилегию воспитывать или служить.Как думают люди, так и будут жить. Все остальное следует из этой первой категории.
- Мораль: Как мы различаем добро и зло . Мы не можем принять моральное решение, не имея четкого представления о том, что правильно, а что неправильно. Наше познание и наша мораль подобны двум сторонам одной медали. Как думаем, так и живем. Если мы думаем, что что-то хорошо, даже если это неправильно с моральной точки зрения, мы будем поступать неправильно.
- Pragmatic: Что мы делаем с тем, что правильно, а что неправильно .Вы слышали фразу «цель оправдывает средства»? Это убеждение, которое гласит: «Неважно, что я делаю, если я выполняю свою работу». Подумай об этом. Правда ли, что цель оправдывает средства? Не совсем. Но мы, кажется, так думаем об этом, не так ли? Мы делаем это постоянно. Каждый раз, когда мы попадаем в ситуацию, когда это может повлиять на нас, первое, в чем мы склонны идти на компромисс, — это не то, что мы делаем, а то, как мы это делаем.
Это три фундаментальных фактора, которые формируют наше мировоззрение.Понимание и определение этих способствующих факторов поможет нам укрепить наши ценности и направит нас в том, как нам жить.
Осознаёте ли вы , как вы думаете, как различаете добро и зло, и что вы делаете с тем, что правильно, а что неправильно? Почему бы не воспользоваться моментом сегодня и не изучить собственное мировоззрение? Если вы заметите несоответствия, примите активные меры, чтобы укрепить основу своего мировоззрения, чтобы вы могли жить в соответствии с библейскими ценностями во всех аспектах своей жизни.
© 2015 Вся жизнь. Все права защищены.
Что такое мировоззрение? Часть 1
Эта статья является частью книги «Что такое мировоззрение?» ряд.
Что такое мировоззрение?
В последние годы много говорилось о мировоззрении . Но что такое мировоззрение?
Как следует из самого слова, мировоззрение — это общий взгляд на мир .Это не физический вид на мир , как планета Земля, которую вы могли бы получить с орбитальной космической станции. Скорее, это философский взгляд на мир — и не только на нашу планету, но и на всю реальность. Мировоззрение — это всеобъемлющий взгляд на все, что существует и имеет для нас значение.
Ваше мировоззрение отражает ваши самые фундаментальные убеждения и предположения о вселенной, в которой вы живете. Он отражает то, как вы ответили бы на все «большие вопросы» человеческого существования, фундаментальные вопросы, которые мы задаем о жизни, Вселенной и всем остальном.
Ваше мировоззрение отражает ваши самые фундаментальные убеждения и предположения о вселенной, в которой вы живете.
Есть ли Бог? Если да, то каков Бог и как я отношусь к Богу? Если бога нет, какое это имеет значение? Что такое правда и может ли кто-нибудь действительно знать правду? Откуда взялась Вселенная и куда она идет — если куда-нибудь? В чем смысл жизни? Есть ли у моей жизни цель — и если да, то какова она? Что мне делать со своей жизнью? Что значит жить хорошей жизнью? В конце концов, действительно ли имеет значение, проживу ли я хорошую жизнь или нет? Есть ли жизнь после смерти? Являются ли люди в основном просто умными обезьянами с превосходным чувством гигиены и моды — или это что-то большее, чем это?
Вы уловили идею.Ваше мировоззрение напрямую влияет на то, как вы отвечаете на такие важные вопросы — или как вы, , ответили бы на них, если бы вас спросили и задумали.
Пупки как
Мировоззрение похоже на пупок. Они есть у всех, но мы нечасто о них говорим. Или, может быть, лучше было бы сказать, что мировоззрение похоже на мозжечок: он есть у всех, и мы не можем жить без них, но не каждый знает , что он у него есть.
Мировоззрение так же необходимо для мышления, как атмосфера для дыхания.Вы не можете мыслить в интеллектуальном вакууме больше, чем вы можете дышать без физической атмосферы. В большинстве случаев вы воспринимаете атмосферу вокруг себя как должное: вы смотрите с на , а не с на , хотя вы знаете, что она всегда там. То же самое и с вашим мировоззрением: обычно вы смотрите сквозь него, а не прямо на него. Это важно, но обычно находится на заднем плане ваших мыслей.
Ваше мировоззрение формирует и информирует вас об окружающем мире.Подобно очкам с цветными линзами, он влияет на то, что вы видите и как вы это видите. В зависимости от «цвета» линз некоторые объекты видны легче, а другие становятся менее заметными или искаженными. В некоторых случаях вы вообще ничего не видите.
Несколько примеров
Вот несколько примеров, чтобы проиллюстрировать, как ваше мировоззрение влияет на то, как вы видите вещи. Предположим, однажды близкая подруга рассказывает вам, что недавно она встретилась со спиритуалистом, который связал ее с любимым человеком, который умер десять лет назад.Позже в тот же день вы прочитали статью о статуе Девы Марии, свидетели которой утверждают, что видели плачущую кровь. Вы также слышите по радио новости о возможных признаках сложной органической жизни, обнаруженной на Марсе. Ваше мировоззрение — ваши исходные предположения о Боге, происхождении и природе вселенной, человеческих началах, жизни после смерти и так далее — сильно влияет на то, как вы интерпретируете эти сообщения и реагируете на них.
Джеймс Н. АндерсонВесьма творческий и интерактивный, этот апологетический ресурс помогает читателям определить и оценить 21 различных мировоззрений с помощью вопросов типа «да или нет» и простых для понимания описаний.В приложениях есть ответы на общие вопросы и предложения для дальнейшего чтения.
Мировоззрение также во многом определяет мнение людей по вопросам этики и политики. То, что вы думаете об абортах, эвтаназии, однополых отношениях, государственном образовании, экономической политике, иностранной помощи, использовании военной силы, защите окружающей среды, правах животных, генетическом улучшении и почти любой другой важной проблеме дня, зависит от вашего основного мировоззрения. больше, чем что-либо.
Как видите, мировоззрение играет центральную и определяющую роль в нашей жизни.Они формируют то, во что мы верим и во что готовы верить, как мы интерпретируем наш опыт, как мы ведем себя в ответ на этот опыт и как мы относимся к другим.
В следующих двух статьях я подробнее расскажу о важности мировоззрения и преимуществах мышления с точки зрения мировоззрения.
Другие сообщения серии
Джеймс Н.
 И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта.
И наоборот, подросток легко может оказаться под дурным влиянием, стать обманутым, попасть в недобрые руки манипулятора в связи с нехваткой личного опыта. Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким.
Волевые люди верят, что смогут добиться чего угодно, поэтому не воспринимают мир как неприступную стену. Слабые и неуверенные, возможно, видят его несправедливым и жестоким. Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно;
Существует мнение, что данная форма была придумана искусственно сильными мира сего в целях управления большим количеством людей (общиной, группой, государством). Так ли это – доподлинно неизвестно;