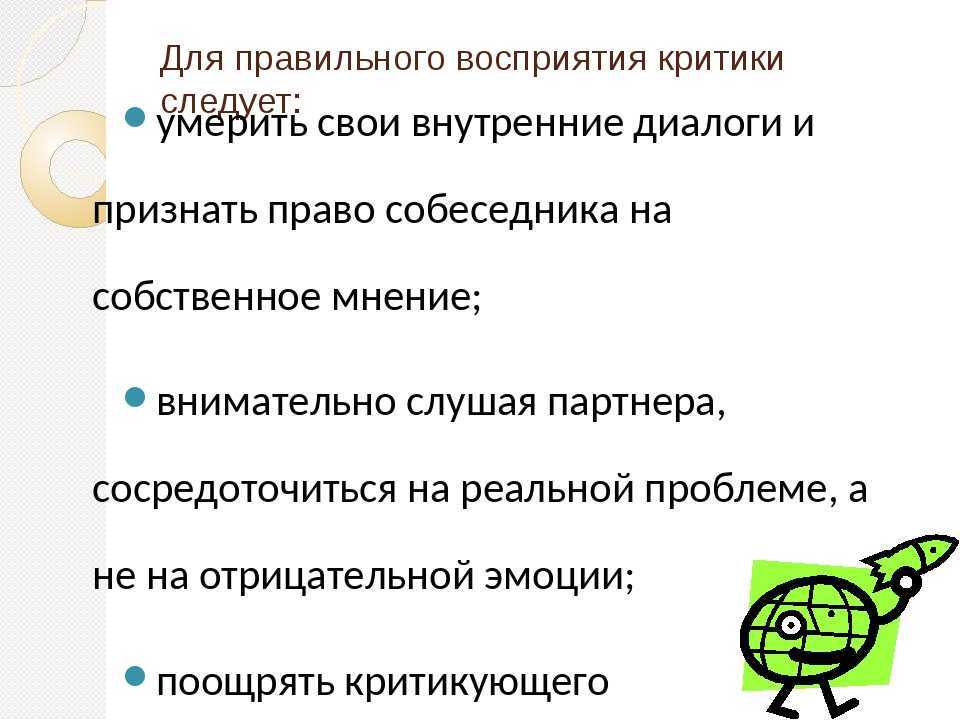Родина Щегла – Weekend – Коммерсантъ
Одно из самых ожидаемых событий ярмарки non/fiction — русский перевод романа Донны Тартт «Щегол», который англоязычная критика уже причислила к собранию «великих американских романов». О том, насколько этот роман американский и в какой степени великий,— Мария Степанова
1.
Что уж там, эта книга мне очень нравится, так нравится, что два дня назад я открыла русскую версию где-то на первых страницах — хотела сверить цитату — и опять проехала, как по водной трубе, по всем предусмотренным сюжетным коленам и поворотам, до самого конца, до Рождества в амстердамском гостиничном номере, и чуть дальше, и там уж счастливо выдохнула, все кончилось, как надо, как я помню, все на месте.
Есть тип читателей, который больше всего в книгах любит тот, по понятным причинам недлинный, отрезок, когда порядок вещей еще не нарушен — пока не началось. Там, где все хорошо, война не объявлена, мать жива, семья не разорилась, то, что составляет суть книги, еще не начало происходить: жизнь еще не разрушена законами сюжетостроения.
Этот участок незамутненного мира в «Щегле» у Донны Тартт совсем коротенький, его едва успеваешь пробежать, чтобы провалиться в сюжет, уже обещанный всеми обложками и рецензентами (в-результате-взрыва-в-музее-мальчик-теряет-мать-и-ворует-великое-полотно). Там все начинается с пасмурного утра, проблемы в школе, надо идти разбираться, пробки, дождь, какие-то разговоры, материнский белый тренч; и вспоминается потом на всем протяжении книги как ее полдневный час, слепящий краешек ненарушимого блага.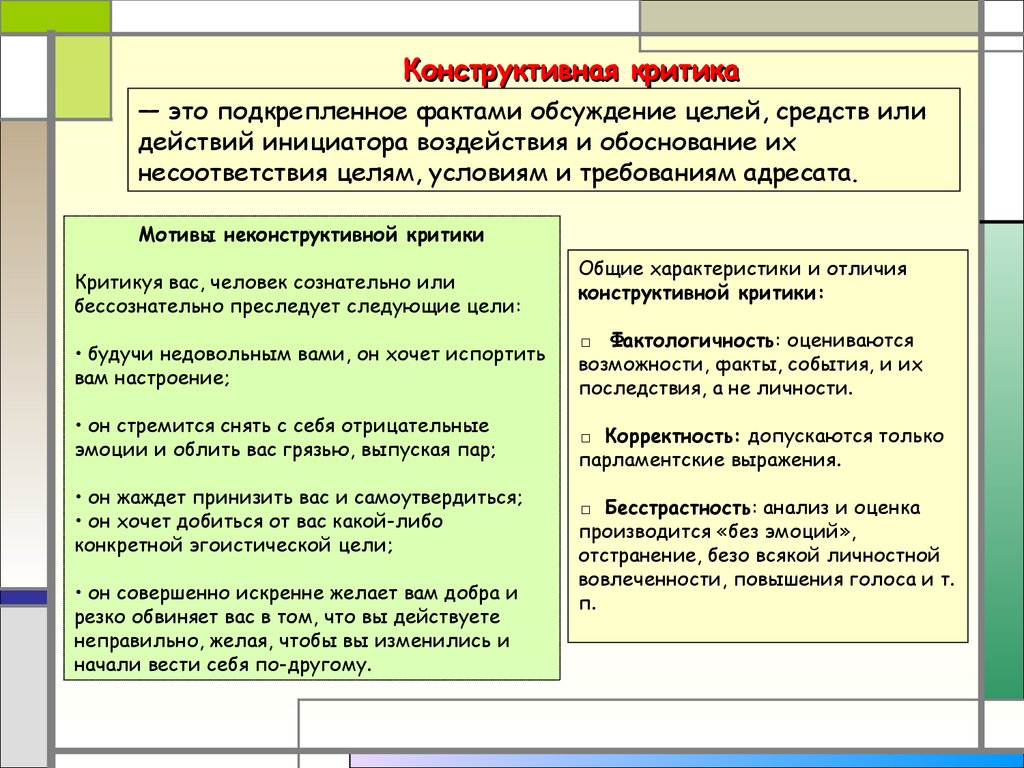
Дальше, если пунктиром, произойдет все обещанное и много еще чего: несколько авантюрных романов, скрученных в один жгут (русская мафия, торговля краденым, торговля поддельным антиквариатом, игорный бизнес), детская любовь, растянутая на долгие года, детская дружба, выпрыгнувшая из забытья, как чертик из табакерки, две собаки и один нарисованный щегол. Все это похоже на бестселлер из списка «Best books of the year» (а «Щегол» им и является), так что кажется непонятным, зачем о нем разговаривать-то, прочти, получи свою нехитрую радость и тянись за следующим.
американка Тартт заказала себе написать большой английский роман, и у нее получилось
Тем не менее по его поводу говорят — в основном что-то полуслучайное от спешки и восторга, как впопыхах написанная аннотация. Например, что наконец-то явился великий американский роман, так долго не было — и вот он. (В последний раз, кажется, в этой оркестровке давали «Поправки» Франзена, и тут уж не было никаких разночтений: большой, американский, говорящий о современности, поднимающий острые-вопросы, дающий-трудные-unsettling-ответы.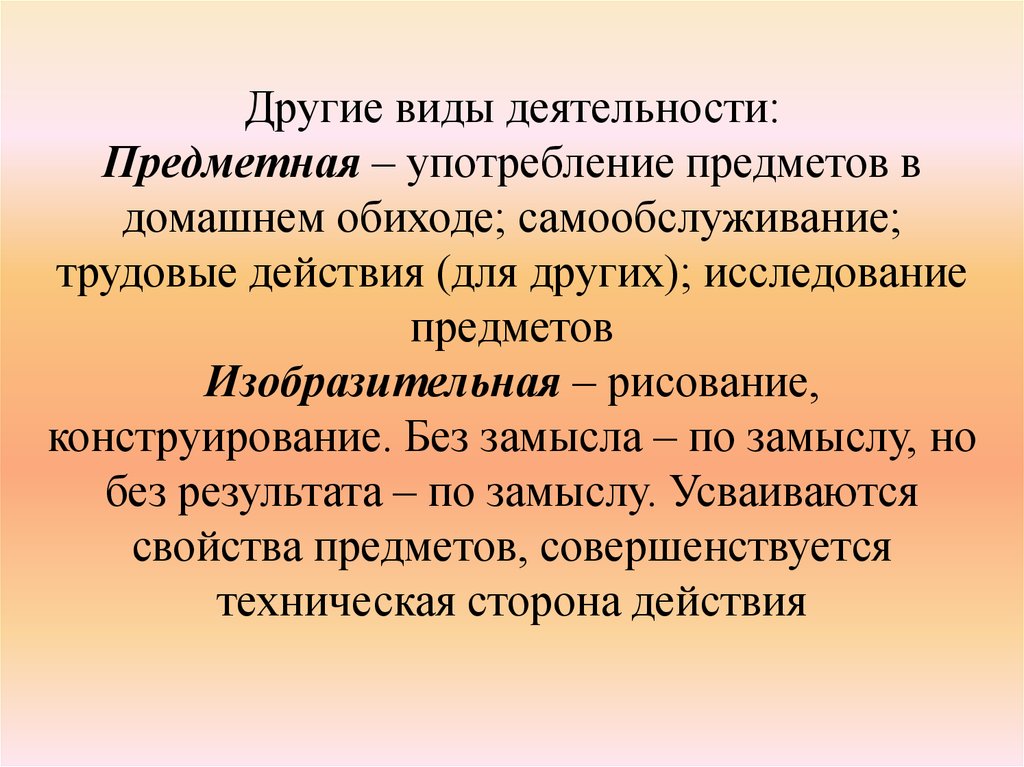 ) «Щегол», большой, восьмисотстраничный — что делает обжигающе приятным чтение этой книги вживую, с бумаги, когда чуешь под пальцами толщу оставшихся страниц и знаешь, что еще надолго хватит — как бы и предназначен для того, чтобы соответствовать любым ожиданиям, не отказываясь ни от одного прочтения. Но вот разного рода актуальность
) «Щегол», большой, восьмисотстраничный — что делает обжигающе приятным чтение этой книги вживую, с бумаги, когда чуешь под пальцами толщу оставшихся страниц и знаешь, что еще надолго хватит — как бы и предназначен для того, чтобы соответствовать любым ожиданиям, не отказываясь ни от одного прочтения. Но вот разного рода актуальность
2.
Этот способ чтения не хуже любого другого. Род письма, выбранный Тартт, подразумевает молчаливое присутствие двух или трех образцов, живущих, как лары с пенатами, в красном углу ее повествования. Время от времени она приносит им жертвы — несколько хлебных крошек, каплю вина, беглое, с улыбкой, упоминание или полунамек. Но выходить из угла им не положено, они не отгадка и не ключ к отгадке. Больше всего их участие похоже на ненавязчивый инстаграмовский фильтр, исподтишка обозначающий возможность иного смысла. В «Щегле» действительно не без Диккенса — и дело далеко не ограничивается «Большими надеждами», о которых принято вспоминать по его поводу. Тут и Оливер Твист, и Дэвид Копперфильд, и вся армия широкосердечных стариков с рождественскими огнями, темными домами, полными неожиданных вещей, и властью прямого, решительного добра. Все это здесь, на мотив «забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней»: осиротевшего мальчика увозят неизвестно куда, постаревшая леди сидит в опустевшем богатом доме, друг-враг появляется и исчезает, злодеи злодействуют. Но все это — скорее акварельный фон, способ подкрасить пространство между координатными осями, которые как раз прочерчены с крайней четкостью, так, чтобы никак нельзя было ошибиться и не понять, что имеется в виду.
Время от времени она приносит им жертвы — несколько хлебных крошек, каплю вина, беглое, с улыбкой, упоминание или полунамек. Но выходить из угла им не положено, они не отгадка и не ключ к отгадке. Больше всего их участие похоже на ненавязчивый инстаграмовский фильтр, исподтишка обозначающий возможность иного смысла. В «Щегле» действительно не без Диккенса — и дело далеко не ограничивается «Большими надеждами», о которых принято вспоминать по его поводу. Тут и Оливер Твист, и Дэвид Копперфильд, и вся армия широкосердечных стариков с рождественскими огнями, темными домами, полными неожиданных вещей, и властью прямого, решительного добра. Все это здесь, на мотив «забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней»: осиротевшего мальчика увозят неизвестно куда, постаревшая леди сидит в опустевшем богатом доме, друг-враг появляется и исчезает, злодеи злодействуют. Но все это — скорее акварельный фон, способ подкрасить пространство между координатными осями, которые как раз прочерчены с крайней четкостью, так, чтобы никак нельзя было ошибиться и не понять, что имеется в виду.
(Думаю в скобках, видно ли это в переводе Анастасии Завозовой — который очень хорош, но при этом неуловимо стилизован как раз под американский роман, под подростковую скороговорку Холдена Колфилда в переводе Райт-Ковалевой?)
Английский роман. Тут мне хочется себя правильно понять, потому что соответствующие страницы «Щегла» из лучшего, что написано о Нью-Йорке — и влипают в память со влажной яркостью переводной картинки, со всей доступной топографической точностью, с определенной скамейкой в Центральном парке, тем самым входом в музей Метрополитен, с Match 65 и бог весть какими еще кафе и перекрестками. И Техас, который у нее состоит в основном из остервенелого неба и пустых домов на краю света, и бесконечное путешествие на автобусе с собакой в картонной коробке — все это самая американская америка, проверяемая на зуб и цвет. Предметный ряд, казалось бы, должен определять дух и тип письма — и тем не менее Тартт написала книгу, которая имеет в виду другой, двоюродный образец: английскую прозу, что на поверку оборачивается лучшим достижением цивилизации, великими книгами о юношестве и для юношества.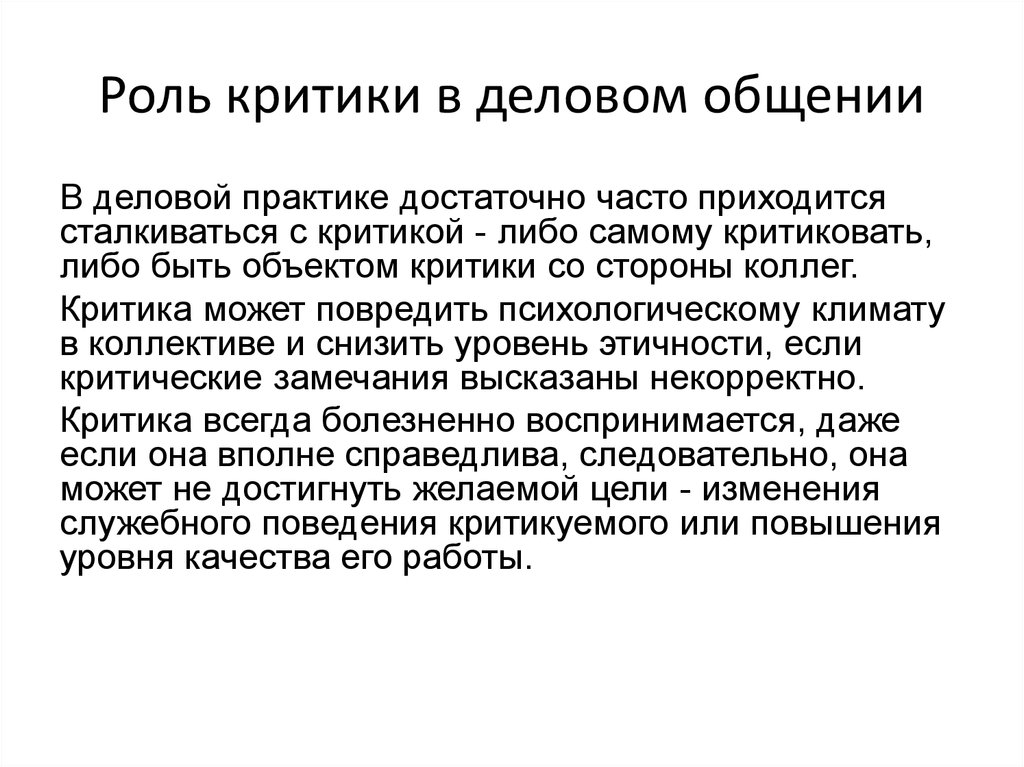
определенный тип огранки делает видимыми вещи, о которых как бы неловко говорить слишком вслух и слишком прямо: добро и зло, честь и бесчестье, истину и красоту
Здесь, совсем рядом, и другие книги этого ряда — Стивенсон, еще один из авторов-талисманов Тартт, с «Похищенным», о котором будет вспоминать герой «Щегла» по собственному поводу. Тут же киплинговский «Ким» с его школой плутовства и наблюдательности, еще одна история о детстве, предоставленном самому себе. Спектр предельно широк, но Тартт умудряется покрасить повествование во все цвета этой размытой радуги, так что плутовской роман с забавными негодяями бесшовно переходит в классическую школьную историю, а оттуда — в какие-то еще темные комнаты, «ring the green bell».
Все это должно что-то значить, и значит, видимо, вот что: сходство, о котором идет речь, не семейное, а видовое — и автор отсылает читателя не к Диккенсу со Стивенсоном, а к полке, на которой они стоят, к романам с чудесами, страшными приключениями и непременным хорошим концом, названий которых мы и знать-то не обязаны, до такой степени они растворены в нашей крови.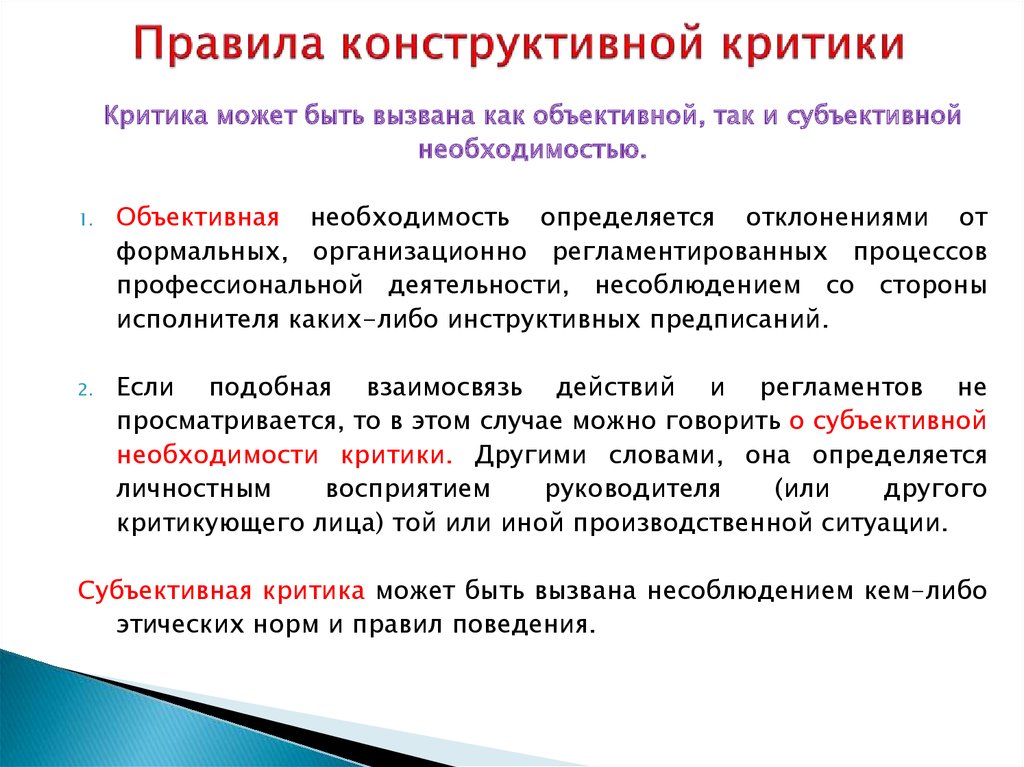 Это книги, некогда сосланные в детскую: книги, чей побочный эффект (воспитывать и занимать, утешать и возвышать) представляется слишком утилитарным для высокой словесности.
Это книги, некогда сосланные в детскую: книги, чей побочный эффект (воспитывать и занимать, утешать и возвышать) представляется слишком утилитарным для высокой словесности.
Я-то глубоко уверена, что все лучшие книги этого мира рано или поздно (и скорей рано, чем поздно) осядут в детской, выполняя тем самым что-то вроде задания — следуя тайному предназначению. То ли потому, что определенный тип огранки делает видимыми вещи, о которых как бы неловко говорить слишком вслух и слишком прямо: добро и зло, честь и бесчестье, истину и красоту. Загадочным образом они возникают там, где нету места прагматике: нравоучению и даже просто учению. Речь там идет скорее о различении добра и зла, от которого не получается уклониться.
Тартт, если подумать, отродясь писала в этом жанре. Ее сюжеты всегда имеют дело с неизбежностью зла, с его склонностью разверзаться под самой надежной половицей. Так что они поневоле закручиваются (как смерч или водоворот) вокруг насилия и смерти, приобретая обманчивую форму криминального романа: читателей «Маленького друга» очень расстраивало, что в книге об убийстве нет внятной концовки-с-разъяснением.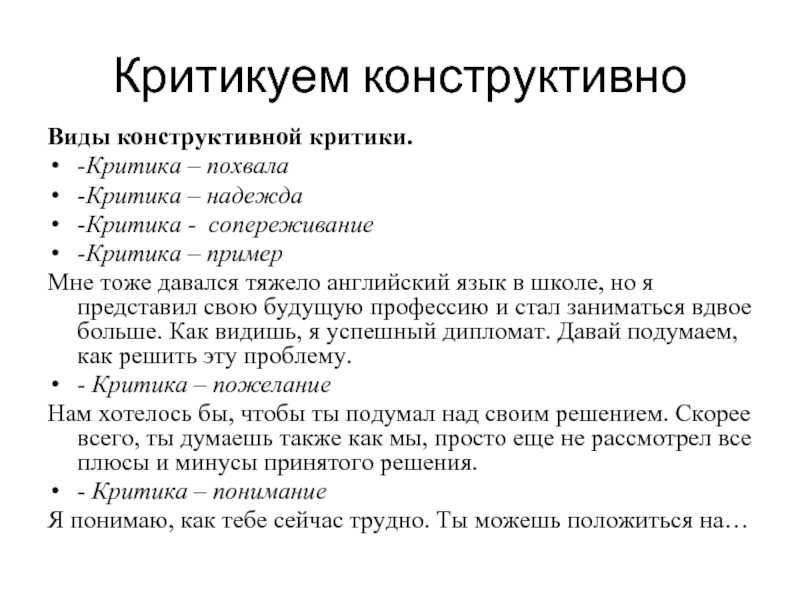 Для того, чтобы отражать происходящее, не теряя льдистой ясности, с которой только Тартт и пишет, нужен особый тип оптического устройства, исключающий любые искажения, передающий сигналы точного времени. В системе Донны Тартт это ребенок или полуребенок. Он и магнит, притягивающий силу судьбы, и отражатель, лишенный взрослой (модернистской, скажу я осторожно) чувствительности, склонной нарушать пропорции и злоупотреблять крупными планами. Гарриет в «Маленьком друге» двенадцать, Тео Декеру в начале «Щегла» тринадцать, студенты из «Тайной истории» постарше, но над первой частью романа еще стоит хрустальный питерпеновский воздух Неверленда — места, куда дети сбежали от родителей, чтобы жить, как нравится самим.
Для того, чтобы отражать происходящее, не теряя льдистой ясности, с которой только Тартт и пишет, нужен особый тип оптического устройства, исключающий любые искажения, передающий сигналы точного времени. В системе Донны Тартт это ребенок или полуребенок. Он и магнит, притягивающий силу судьбы, и отражатель, лишенный взрослой (модернистской, скажу я осторожно) чувствительности, склонной нарушать пропорции и злоупотреблять крупными планами. Гарриет в «Маленьком друге» двенадцать, Тео Декеру в начале «Щегла» тринадцать, студенты из «Тайной истории» постарше, но над первой частью романа еще стоит хрустальный питерпеновский воздух Неверленда — места, куда дети сбежали от родителей, чтобы жить, как нравится самим.
Отсутствие родителей, их равнодушие, предательство, смерть — еще одно обязательное условие прозы Тартт, без него действию не начаться (воронке не закрутиться). Но на полке, о которой мы говорим, по-другому и не бывает. Гибель родителей, то, что она возможна, — что-то вроде общего места детского мира, занавес, который поднимается над каждой новой сценой в сотнях сказок, десятках мультиков, в «Золушке», «Бэмби», «Короле-льве».
3.
Интересно подумать, какие книги этого рода существуют в русском языке — и первыми приходят на ум пушкинская «Капитанская дочка» и набоковский «Подвиг», англофильский роман, написанный на кириллице. Дальше по ходу ХХ века начинаешь буксовать, шарить в памяти, пока не оказывается, что между детской литературой прямого действия и взрослой, сложной и непрямой, возникает что-то вроде зияния, провала — место пусто. Где-то здесь должен бы быть ответ на то, почему «Щегол», написанный по-английски, так хочется читать и перечитывать, как свое (и почему так тоскливо и стыдно бывает читать вещь, которая называется современным русским романом, слепой и глухой внутриутробный текст, давно не вызывающий тоски по чужой, живой, желанной жизни). Тот тип письма эмигрировал, переехал, сменил прописку. Но как хорошо он отзывается здесь; непреднамеренно, но каким счастливым звоном — Кити, Китси, бархатка была прелесть, розовое платье, розовое пальто, мамины сережки на ресторанной салфетке. Словно «Щегол» и есть то, что читала Каренина в купе — что она читала бы сейчас, и ей хотелось бы быть всеми, о ком там говорится, поочередно.
Тот тип письма эмигрировал, переехал, сменил прописку. Но как хорошо он отзывается здесь; непреднамеренно, но каким счастливым звоном — Кити, Китси, бархатка была прелесть, розовое платье, розовое пальто, мамины сережки на ресторанной салфетке. Словно «Щегол» и есть то, что читала Каренина в купе — что она читала бы сейчас, и ей хотелось бы быть всеми, о ком там говорится, поочередно.
Кстати, к «русскому» (русско-украинско-польскому) слою в «Щегле» почему-то принято придираться — несправедливо, на мой взгляд; все otvali и ischezni стоят там на местах и делают что положено, разве что сомнительный mazhor значит там что-то вроде komandir. Но это можно пережить в романе, который и сам что-то вроде непрямого перевода с английского на английский, с языка современности на язык нерасщепленного мира.
Книга Тартт написана так, словно все длится и ничего не кончается; словно все живы и будут живы; словно нет дистанции между позавчера и сегодня
С этой точки литературный проект Тартт кажется особенно отчетливым. Она написала антимодернистский (или вернее домодернистский, в тексте нету и тени реваншистского задора) роман — как если бы связность мира не была нарушена, как если бы от Стивенсона до Боланьо вела одна прямая, как будто не было ни «Улисса», ни всего, что за ним последовало, на бумаге и не на бумаге. Если бы речь шла о литературе массового образца — о жанровой литературе, к которой я отношусь с глубокой нежностью, или о индустриальной беллетристике, которая словно и не подозревает о том, что случилось в последние сто лет с романом и человеком, можно было бы предположить, что автор не ведает, что творит. Случай Тартт обратный, она слишком хорошо знает, что делает, и ее попытка отменить двадцатый век и написать великий роман девятнадцатого на материале двадцать первого (так, словно между нею и Диккенсом не больше, чем чайный стол, а историю литературы можно сменить, как скатерть) — не что иное, как протестная акция.
Она написала антимодернистский (или вернее домодернистский, в тексте нету и тени реваншистского задора) роман — как если бы связность мира не была нарушена, как если бы от Стивенсона до Боланьо вела одна прямая, как будто не было ни «Улисса», ни всего, что за ним последовало, на бумаге и не на бумаге. Если бы речь шла о литературе массового образца — о жанровой литературе, к которой я отношусь с глубокой нежностью, или о индустриальной беллетристике, которая словно и не подозревает о том, что случилось в последние сто лет с романом и человеком, можно было бы предположить, что автор не ведает, что творит. Случай Тартт обратный, она слишком хорошо знает, что делает, и ее попытка отменить двадцатый век и написать великий роман девятнадцатого на материале двадцать первого (так, словно между нею и Диккенсом не больше, чем чайный стол, а историю литературы можно сменить, как скатерть) — не что иное, как протестная акция.
Тут надо оговориться: никакого викторианства, никакого стилизаторства (ни сорокинского, ни «реконструкторского», ни языкового, ни метафизического) в этом романе нет — нет и никакой архаики; вся наличная современность подставлена книге, как зеркало.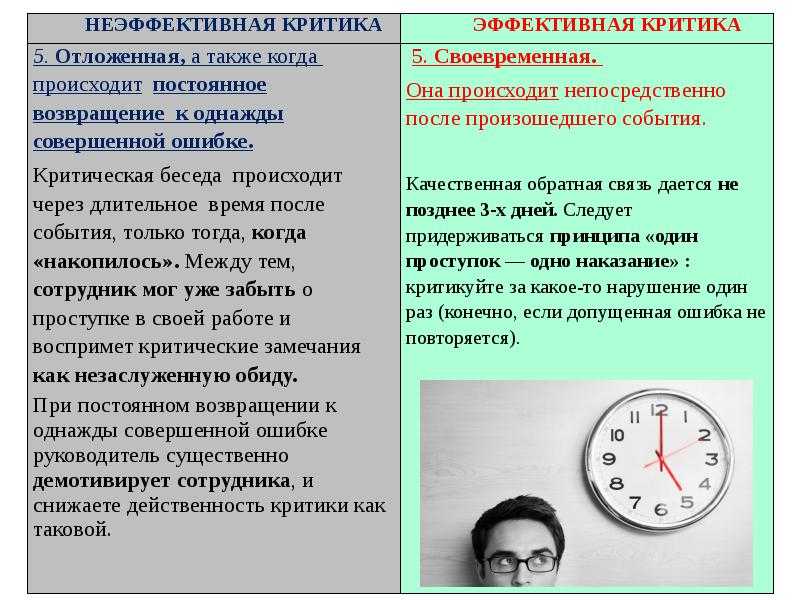 То, что делает «Щегла» таким вопиюще, упоительно другим — ощущение непрерывности, исходящее от каждой страницы с ее смертями, обидами, страхами, с ее цветными картинками. Эта не оглядывающаяся, как Орфей, связность повествования имеет в виду связность другого рода: имеющую отношение к жизни даже в большей степени, чем к искусству. Книга Тартт написана так, словно все длится и ничего не кончается; словно все живы и будут живы; словно нет дистанции между позавчера и сегодня. Словно чиппендейловский стул может быть сделан здесь и сейчас.
То, что делает «Щегла» таким вопиюще, упоительно другим — ощущение непрерывности, исходящее от каждой страницы с ее смертями, обидами, страхами, с ее цветными картинками. Эта не оглядывающаяся, как Орфей, связность повествования имеет в виду связность другого рода: имеющую отношение к жизни даже в большей степени, чем к искусству. Книга Тартт написана так, словно все длится и ничего не кончается; словно все живы и будут живы; словно нет дистанции между позавчера и сегодня. Словно чиппендейловский стул может быть сделан здесь и сейчас.
Но может ли.
Это, кажется, главный вопрос книги, ее подземный сюжет. В антикварной лавке Хоби, друга и воспитателя героя, есть странные предметы, которые он называет подменышами. Это существа двойной природы — как теперь сказали бы, гибриды — частью старинные, частью современные, сделанные только что; это кресла, столы, козетки, у которых родные только ножка или две, лишь дверца шкафа или деталь узора. Все остальное сделано вот только что, и все-таки подменыши живее всех живых, не хуже, если не лучше, музейной мебели, стоящей рядом. Какова дистанция между подлинником и подделкой? старым и новым? настоящим и ненастоящим? Картинка со щеглом в детской хрестоматии, репродукция на давно разрушенной стене, оригинал в музейном зале — есть ли между ними разница? И есть ли копии, которые не были бы оригиналом?
Какова дистанция между подлинником и подделкой? старым и новым? настоящим и ненастоящим? Картинка со щеглом в детской хрестоматии, репродукция на давно разрушенной стене, оригинал в музейном зале — есть ли между ними разница? И есть ли копии, которые не были бы оригиналом?
В «Щегле» Донна Тартт исходит из убеждения, что подделок не бывает, и доказывает это, как теорему. Это, пожалуй, самое прямое высказывание о своем деле и его основаниях — высказывание на восемьсот романных страниц, подменыш, который смог дорасти до оригинала — в конце книги переходит в прямую речь, своего рода проповедь или объяснительную записку о том, что автор хотел сделать с этим фантом.
Но меньше всего «Щегол» похож на иллюстрацию к заранее заготовленному тезису или на инсталляцию «Дискуссия о методе». Текст Тартт куда избыточней, чем это нужно для современного романа, устроенного, как заводная игрушка на три оборота, где любая деталь что-то иллюстрирует или с чем-то старательно закольцована. А тут и не втиснуть в переплет всего лишнего, то есть необходимого: цыгановатую девочку в инвалидном кресле на ступеньках дорогого отеля, и утопленника Энди, и его безумного отца, и зеленую ящерицу, и польскую колыбельную.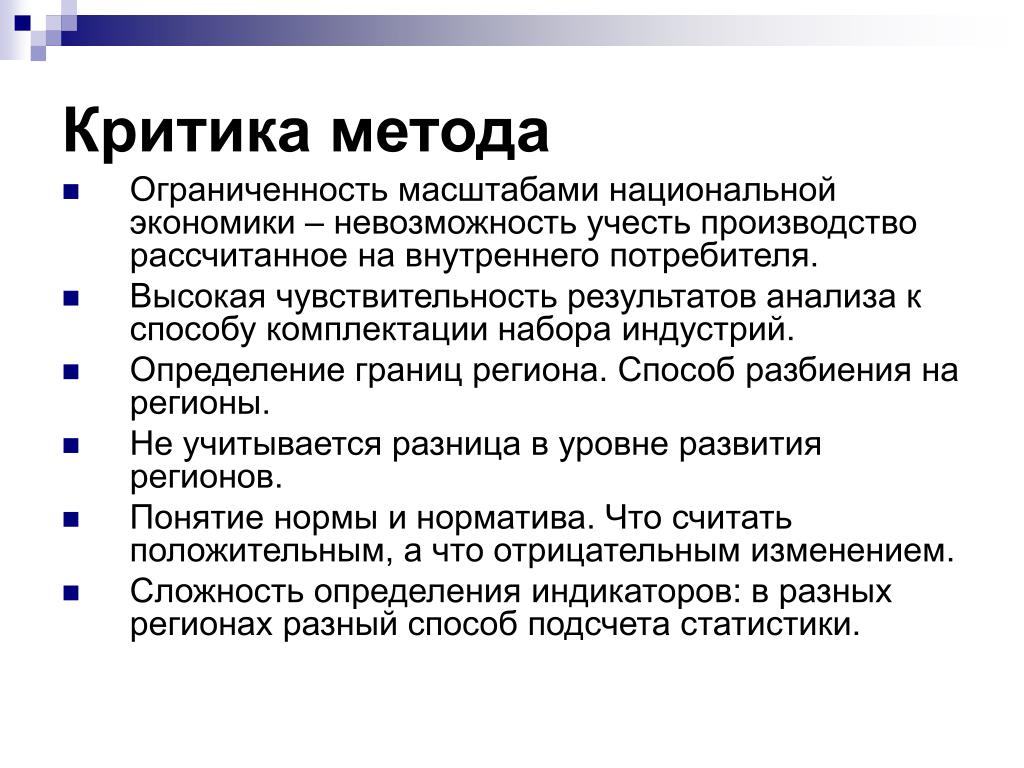 В этом и состоит миссия Тартт, ее спасательная операция.
В этом и состоит миссия Тартт, ее спасательная операция.
«Потертые деревянные звери (слоны, тигры, быки, зебры,все на свете — до пары крошечных мышек) терпеливо стояли в очереди на посадку.
— Это ее? — спросил я, зачарованно помолчав — животные были выставлены с такой любовью (большие кошки подчеркнуто не смотрят друг на друга, павлин отвернулся от павы, чтобы полюбоваться своим отражением в тостере), что я мог себе представить, как она часами их расставляет, чтобы все было именно так, как надо».
4.
И в этой книге, да, много сентиментального — как могут быть сентиментальными рифмы (если понимать их по-набоковски, как разметку внутреннего родства) — и ощутимая подкладка доброты, твердое знание, что тебя здесь не обманут и не оскорбят. Эта непреднамеренная старозаветная добротность, эта ветхая формула, тоже набоковская — красота плюс жалость, никак иначе — действительно выпали из обихода, как представление о том, что картина это окно, а роман — пустой объем, который надо заполнить звуками и смятеньем.
Это удивительная задача. Больше всего происходящее похоже на фантомные боли — боли, возникающие после паралича или ампутации. Роман, начисто утраченный, демонтированный, преодоленный, вывернутый наизнанку с его неправдоподобными Петрами Ивановичами, перелицованный под нон-фикшн, вытесненный сериалами, лишенный всяческих прав, начинает вдруг чувствовать и чувствоваться, как ни в чем не бывало. У меня это вызывает неподдельное счастье — возможно, фантомное счастье-подменыш. Если верить Тартт, разницы все равно никакой.
Донна Тартт. Щегол / Пер.: А. Завозовой. М.: Corpus, АСТ, 2014
Американские писатели о Великом Американском Романе
35 книг, которые надо купить на non/fiction
Новости Школы искусств и гуманитарных наук
Контактный центрRU EN
Версия для слабовидящих
28 октября
О финале всероссийской олимпиады «Журналистика» в Томске рассказала студентка ДВФУ
27 октября
Преподаватель ШИГН приняла участие в VI Вузовском отборочном чемпионате WorldSkills Russia в качестве главного эксперта
27 октября
Аспирантка ШИГН приняла участие в X Международном Американистском симпозиуме в Нижнем Новгороде
26 октября
Бойцы студенческих отрядов ДВФУ покоряли Сахалин
20 октября
Студентка 2 курса ШИГН по направлению «Журналистика» стала обладателем именной стипендии ООО «ИК «Конкурент».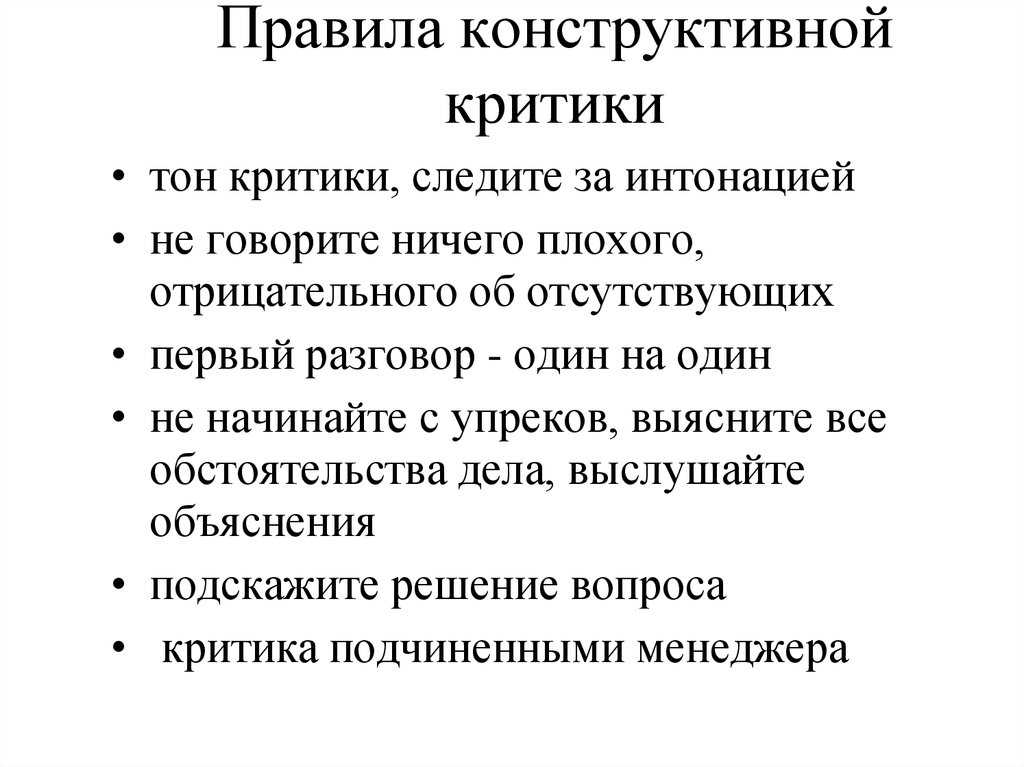
15 октября
Ученые ШИГН ДВФУ приняли участие в работе конференции, приуроченной к 80-летию МонГУ
13 октября
Студенты ШИГН посетили лекцию Российского общества «Знание»
03 октября
Начинается прием заявок на участие в конкурсе на именную стипендию ООО «Дж. Т.И. Россия»
01 октября
Посвящение первокурсников в студенты ШИГН ДВФУ
30 сентября
Студентка ШИГН завоевала первенство и золотую медаль в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Главная
- О школе
- Государственная итоговая аттестация
- Структура
- Ученый совет
- Наука
- Научный журнал
- Пожертвования
- Партнеры
- Контакты
Критика повседневной жизни
Автор: futuresandpasts в рубрике «Без категории» | Теги: Лефевр |
Оставить комментарий
Исторически трехтомная «Критика повседневной жизни» Анри Лефевра оказала большое влияние на «Новых левых» 1968 года и все такое. Лефевр также продолжает оказывать влияние на работы Дэвида Харви, Фредрика Джеймисона и т. д. Вместо обсуждения исторической важности Лефевра в этом кратком изложении будет изложена аргументация Лефевра и подчеркнута современная актуальность «Критики повседневной жизни».
Лефевр также продолжает оказывать влияние на работы Дэвида Харви, Фредрика Джеймисона и т. д. Вместо обсуждения исторической важности Лефевра в этом кратком изложении будет изложена аргументация Лефевра и подчеркнута современная актуальность «Критики повседневной жизни».
Посылка Лефевра состоит в том, что «единственной настоящей критикой была и остается критика левых… Потому что только она основана на знании». Лефевр действует исходя из этой предпосылки, приводя доводы в пользу марксистского подхода, противоречащего бессодержательному формализму официального сталинского марксизма его времени. Подчеркивая социологическую основу мысли Маркса и центральную важность марксовых концепций отчуждения, фетишизма и мистификации, Лефевр утверждает, что эти категории следует использовать для критики повседневной жизни.
Эти расширенные цитаты демонстрируют, как Лефевр концептуализирует и формулирует критику повседневной жизни.
«Мы должны думать о том, что происходит вокруг нас, внутри нас, каждый и каждый день. Мы живем на фамильярных условиях с людьми из нашей семьи, нашей среды, нашего класса. Это постоянное впечатление близости заставляет нас думать, что мы знаем их, что их очертания определены для нас и что они видят себя такими же, как они. Мы определяем их. и мы судим их. Мы можем отождествлять себя с ними или исключать их из нашего мира. Но знакомое не обязательно известное. “ 14-15
Мы живем на фамильярных условиях с людьми из нашей семьи, нашей среды, нашего класса. Это постоянное впечатление близости заставляет нас думать, что мы знаем их, что их очертания определены для нас и что они видят себя такими же, как они. Мы определяем их. и мы судим их. Мы можем отождествлять себя с ними или исключать их из нашего мира. Но знакомое не обязательно известное. “ 14-15
«Для нас, в нашем обществе, с господствующими в нем формами обмена и разделения труда, нет общественного отношения — отношения с другим — без известного отчуждения. И каждый индивид существует социально только благодаря своему отчуждению и в его пределах, так же как он может быть для себя только внутри и благодаря своей депривации (своему частному сознанию). 15-16
составляют целое, которое мы можем назвать «глобальной структурой» или «тотальностью» при условии, что мы подчеркнем его исторический, изменчивый, преходящий характер. Если мы рассматриваем критику повседневной жизни как аспект конкретной социологии, мы можем предусмотреть обширное исследование, которое будет рассматривать профессиональную жизнь и досуг с точки зрения их многосторонних взаимодействий. Наша особая забота будет состоять в том, чтобы извлечь из отрицательных элементов живое, новое, положительное — стоящие потребности и удовлетворения; отчуждения». 42
Наша особая забота будет состоять в том, чтобы извлечь из отрицательных элементов живое, новое, положительное — стоящие потребности и удовлетворения; отчуждения». 42
«итак, чтобы достичь реальности, мы действительно должны сорвать завесу, ту завесу, которая вечно рождается и возрождается в повседневной жизни и которая маскирует повседневную жизнь вместе с ее самыми глубокими и высокими амбициями» 57
«Истинная критика повседневности жизнь будет иметь своей главной целью разделение человеческого (реального и возможного) и буржуазного упадка и будет означать реабилитацию повседневной жизни. 127
В своей «Критике повседневной жизни» Лефевр формулирует, как можно использовать критическое знание, содержащееся в шести марксистских категориях, в качестве «маяка» в критике повседневной жизни. Эти шесть категорий по-прежнему являются вопросами первостепенной важности в современной теории. Они актуальны для современности и имеют поразительное сходство с современной работой Венди Браун «Терпя отвращение».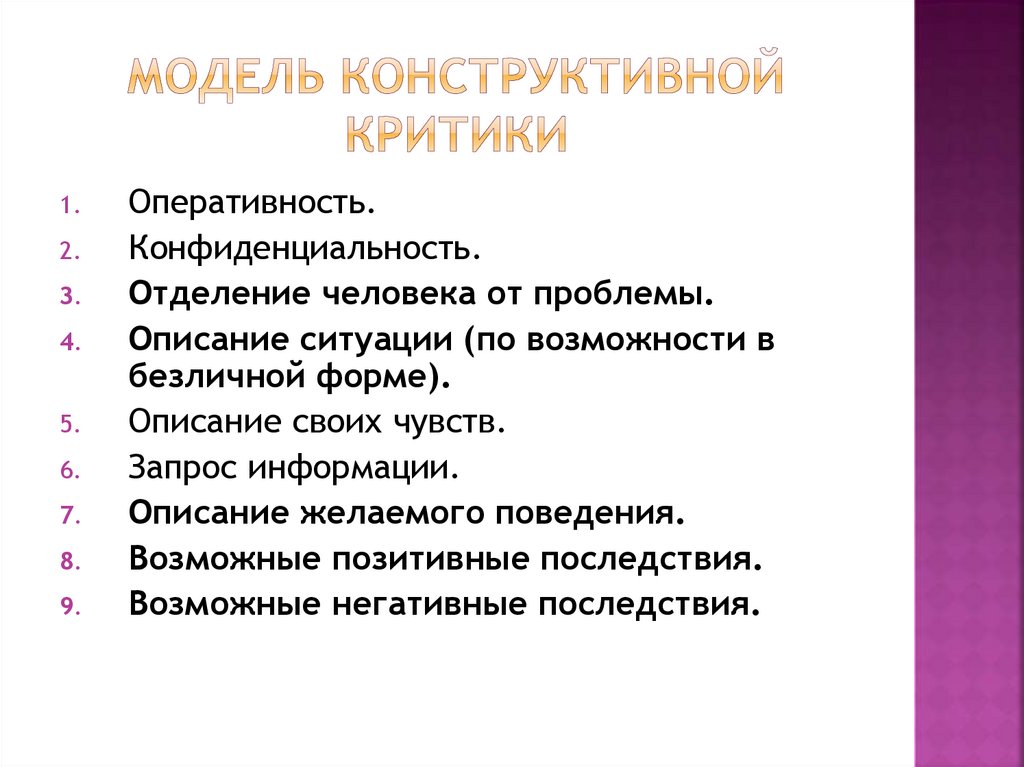 После того, как я опубликую заметки о работе Брауна, я сравню Лефевра и Брауна и обсужу, почему они удивительно актуальны и важны.
После того, как я опубликую заметки о работе Брауна, я сравню Лефевра и Брауна и обсужу, почему они удивительно актуальны и важны.
А) Критика индивидуальности. (Центральная тема; «частное» сознание»)
«И теперь мы еще боремся с этим глубоким, другими словами житейским, противоречием: то, что делает каждого из нас человеком, и превращает этого человека в нечто нечеловеческое. Более биологическая, чем подлинно человеческая, эта организация (т. е. капитализм) душит индивидуума, разделяя его и останавливая его развитие в тот самый момент, когда она стремится создать из него человеческую личность… Как можно заменить эту организацию? Практическим и теоретическим участием в работе и в познании работы, в социальной и человеческой тотальности. Если мир должен быть преобразован, это одна из фундаментальных проблем… мы должны заменить «частное сознание». 150
B) Критика мистификаций (центральная тема: «мистифицированное сознание»)
«частное сознание и мистифицированное сознание идут рука об руку, усиливая друг друга и все больше укореняясь в результате нестабильности, берущей свое начало в реальной жизни.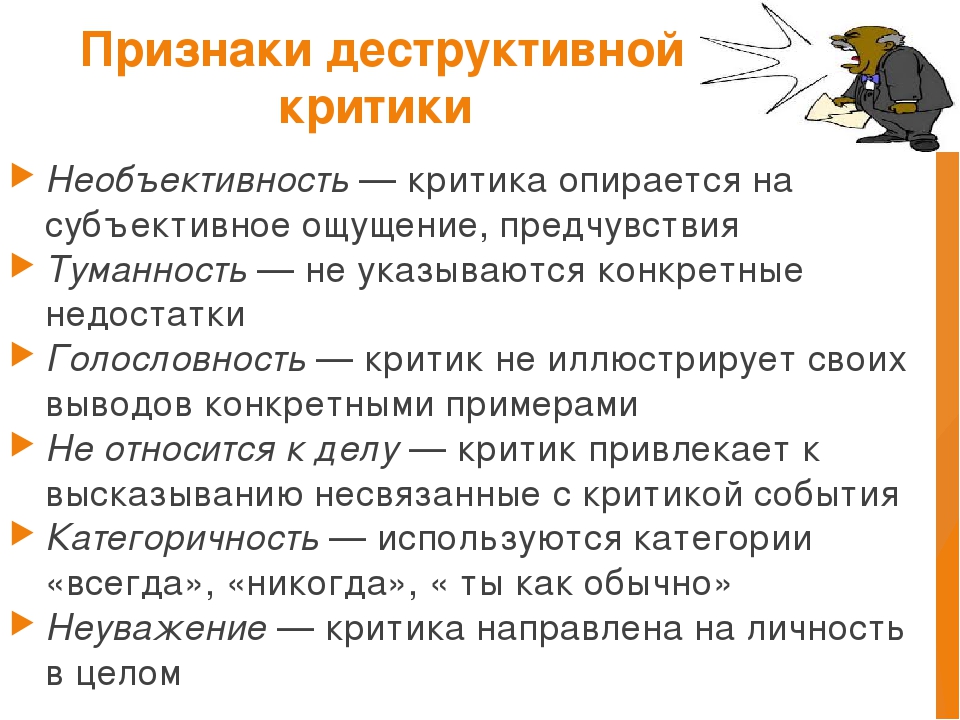 а не в чистых идеях» 153
а не в чистых идеях» 153
В) Критика денег (центральная тема: фетишизм и экономическое отчуждение)
«Хотя лишения и отчуждения различны для пролетариата и непролетария, их объединяет одно; деньги, отчужденная сущность человека. Это отчуждение постоянное, т. е. практическое и повседневное». 161
Г) Критика потребностей (Центральная тема; психологическое и моральное отчуждение)
Потребление не удовлетворяет потребности. Как и потребности, создаваемые культурной индустрией.
E) Критика труда (Центральная тема: отчуждение рабочего и человека)
«Анализ, следовательно, должен различать реальный «человеческий мир», с одной стороны, совокупность человеческих трудов и их взаимное воздействие на человека , а с другой — нереальность отчуждения.
Но эта нереальность кажется бесконечно более реальной, чем что-либо подлинно человеческое. И эта видимость способствует отчуждению; оно становится реальным, и в результате великая абстрактная «идея» или известная форма государства кажутся бесконечно более важными, чем смиренное повседневное чувство или произведение, рожденное руками человека. 169
169
Ж) Критика свободы (Центральная тема: власть человека над природой и над своей природой)
Марксистское определение свободы конкретно и диалектично. Царство свободы постепенно устанавливается «развитием человеческих сил как самоцель»… оно постепенно завоевывается общественным человеком. Ибо Власть или, точнее, совокупность сил, составляющих свободу, принадлежит человеческим существам, сгруппированным в общество, а не изолированному индивидууму… в царстве необходимости человеческие потребности деградируют… они просто продолжают работать, и их жизни тратятся только на то, чтобы остаться в живых. Короче говоря, это была и остается философией повседневной жизни.
Потребность в свободе;
(a) «ассоциированные производители должны… рационально управлять человеческим обменом веществ с природой, ставя его под свой коллективный контроль, а не подчиняясь ему как слепой силе».
(б) Материальные и нравственные параметры практической (бытовой) жизни, определяемые частной собственностью, должны быть преобразованы.
(c) Через деятельность, посвященную удовлетворению и контролированию насущных потребностей, должен происходить рост в сфере ‘истинного царства свободы, развитие человеческих сил как самоцель, [которое] начинается за его пределами, хотя она может процветать только на основе этого царства необходимости» Эта сфера, эта «духовная» сфера человека состоит, прежде всего, в социальной и рациональной организации свободного досуга. Как утверждает Маркс в «Капитале»; «Сокращение рабочего дня является основным условием» 9.0004
Это использование Маркса приводит к программному наброску Лефевра для критики повседневной жизни;
(А) Он будет включать методологическое противостояние так называемой «современной» жизни, с одной стороны, с прошлым, а с другой – и прежде всего – с возможным, так что точки или секторы, где «декаданс ‘ или произошел уход из жизни, — можно определить точки отставания в плане возможного — точки, где появляются новые формы, богатые возможностями.
(B) При изучении с этой точки зрения человеческая реальность предстает как противопоставление и «контраст» между определенным числом терминов; повседневная жизнь и праздник — массовые движения и исключительные движения — тривиальность и великолепие — серьезность и игра — реальность и мечты и т. д.
д.
Критика повседневной жизни включает в себя и исследование точных отношений между этими терминами. Это подразумевает критику тривиального исключительным, но в то же время критику исключительного тривиальным, «элиты» массой, фестивалем, мечтами, искусством и поэзией, реальностью.
© В равной степени критика повседневной жизни подразумевает конфронтацию действенной человеческой реальности с ее «выражениями»; нравственные учения, психология, философия, религия, литература.
С этой точки зрения религия есть не что иное, как прямая, непосредственная, отрицательная, разрушительная, непрестанная и искусная критика жизни, достаточно искусная даже для того, чтобы казаться не тем, чем она является на самом деле.
Философия была косвенной критикой повседневности внешней (метафизической) «истиной». Теперь уместно рассмотреть философию прошлого с этой точки зрения — и это задача, стоящая перед «сегодняшним» философом. Изучать философию как косвенную критику жизни — значит воспринимать (повседневную) жизнь как непосредственную критику философии.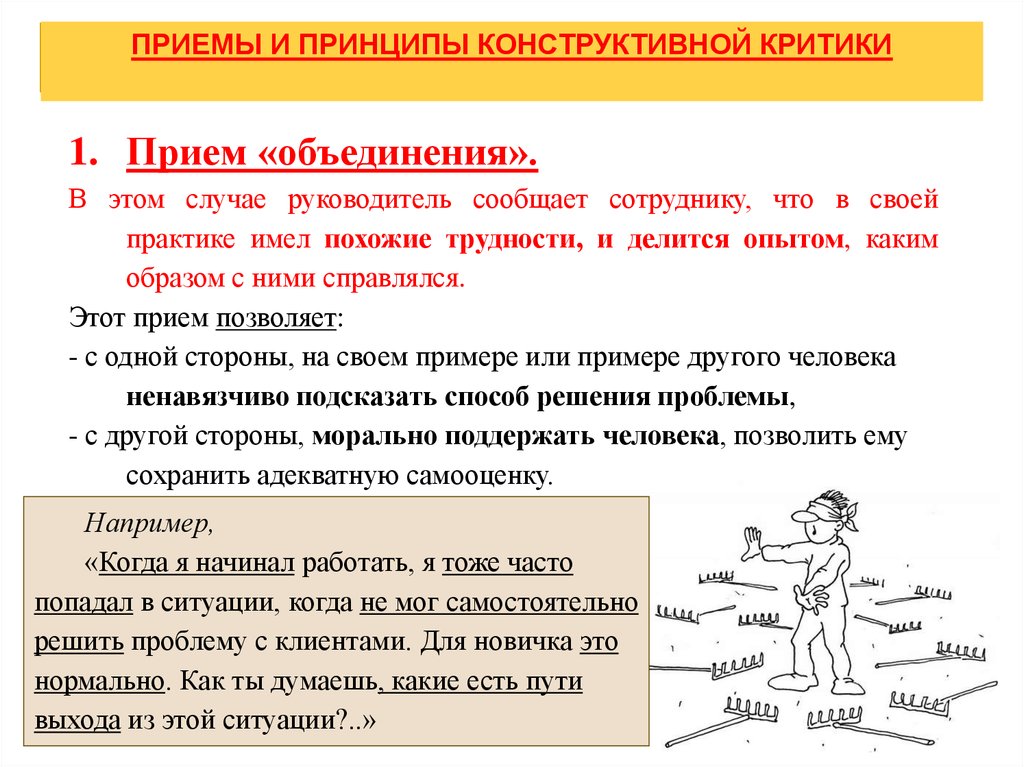 0004
0004
(d) Отношения между группами и индивидами в повседневной жизни взаимодействуют таким образом, который частично ускользает от специальных наук. Путем абстрагирования эти науки выводят определенные отношения, определенные существенные аспекты из чрезвычайной сложности человеческой реальности. Но выполнили ли они эту задачу? Создается впечатление, что как только отношения, идентифицированные историей, политической экономией или биологией, извлечены из человеческой действительности, остается какая-то огромная, бесформенная, неопределенная масса. Это темный фон, на котором выделяются известные отношения и высшая деятельность (научная, политическая, эстетическая).
Именно это «человеческое сырьё» и берётся в качестве надлежащего предмета изучения повседневной жизни. Он изучает его как сам по себе, так и в его отношении к дифференцированной высшей форме, которую он поддерживает. Таким образом, это поможет понять «все содержание» сознания; это будет его вкладом в попытку достичь единства, тотальности — реализации тотального человека.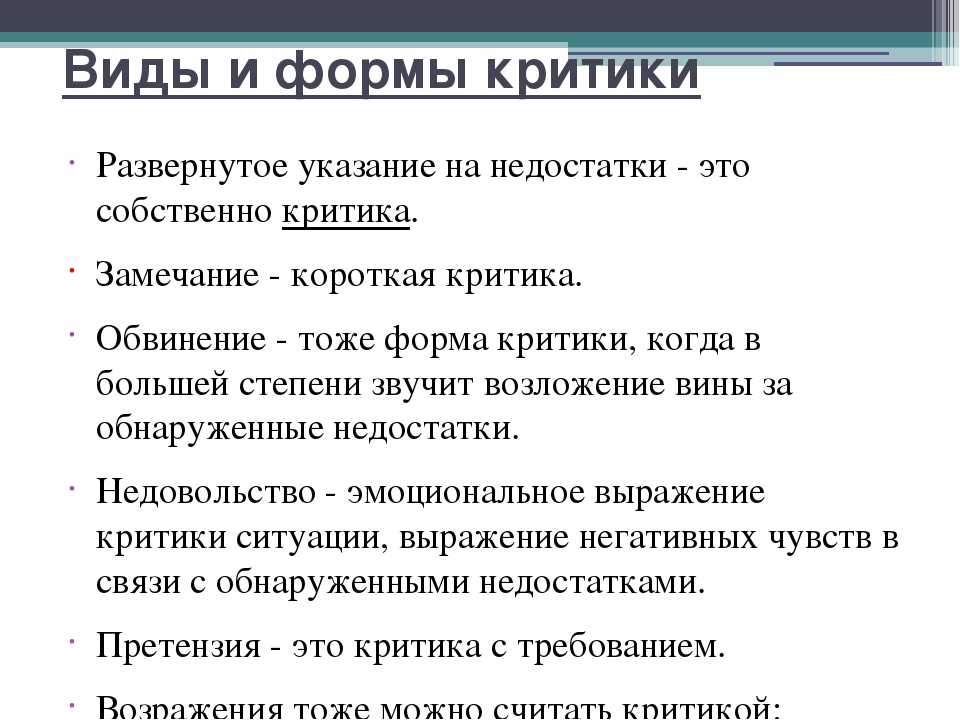
Выходя за пределы эмоциональных попыток филантропов и сентиментальных (мелкобуржуазных) гуманистов «возвеличить» скромные жесты, и за пределы той якобы высшей иронии, которая систематически обесценивает жизнь, рассматривая ее просто как закулисную деятельность или комическое облегчение в трагедии, критика повседневной жизни — критическая и позитивная — должна расчистить путь подлинному гуманизму, гуманизму, который верит в человека, потому что знает его». 251-252
Нравится:
Нравится Загрузка…
«Критика повседневной жизни» Анри Лефевра (продолжение)
Опубликовано вКниги Отзывы Выходныепо Барри Швабски
«Информации становится все больше, а прямые контакты снижаются. Отношения становятся более многочисленными, а их интенсивность и подлинность уменьшаются», — писал Анри Лефевр в 1919 году. 61, а к 1981 году он понял, что это повлечет за собой «уединение, тем более глубокое, что он будет перегружен сообщениями». Разве я ошибаюсь, удивляясь тому, что этот человек, родившийся вместе с 20 веком в 1901 году, мог предвидеть то, свидетелем чего он не дожил, умерев 90 лет спустя? А именно новый вид повседневной жизни, обусловленный Всемирной паутиной (1991 г.), а затем появлением социальных сетей (например, Facebook: 2004 г.), которых он не увидел, не говоря уже о реалити-шоу: «Радио и телевидение не проникать в повседневность исключительно с точки зрения зрителя. Они ищут ее в ее источнике: персонализированные (но поверхностные) анекдоты, тривиальные инциденты, знакомые маленькие семейные события. Они исходят из неявного принципа; «Все, то есть вообще что угодно, может стать интересным, даже увлекательным, лишь бы оно было представлено , то есть присутствует. «Эта сверхъестественная способность Лефевра различать культурные тенденции, которые только зарождались, когда он писал, но с тех пор стали явно очевидными, объясняет, почему я рад этому, несмотря на мое разочарование в первой части «Критики » Лефевра.
61, а к 1981 году он понял, что это повлечет за собой «уединение, тем более глубокое, что он будет перегружен сообщениями». Разве я ошибаюсь, удивляясь тому, что этот человек, родившийся вместе с 20 веком в 1901 году, мог предвидеть то, свидетелем чего он не дожил, умерев 90 лет спустя? А именно новый вид повседневной жизни, обусловленный Всемирной паутиной (1991 г.), а затем появлением социальных сетей (например, Facebook: 2004 г.), которых он не увидел, не говоря уже о реалити-шоу: «Радио и телевидение не проникать в повседневность исключительно с точки зрения зрителя. Они ищут ее в ее источнике: персонализированные (но поверхностные) анекдоты, тривиальные инциденты, знакомые маленькие семейные события. Они исходят из неявного принципа; «Все, то есть вообще что угодно, может стать интересным, даже увлекательным, лишь бы оно было представлено , то есть присутствует. «Эта сверхъестественная способность Лефевра различать культурные тенденции, которые только зарождались, когда он писал, но с тех пор стали явно очевидными, объясняет, почему я рад этому, несмотря на мое разочарование в первой части «Критики » Лефевра. of Everyday Life , я решил продолжать читать вторую и третью книги: «Основы социологии повседневности» (1961) и «От современности к модернизму (К метафилософии повседневности» (19).81). Не то чтобы это все еще не очень несовершенная, иногда сводящая с ума работа. Длинные отрезки посвящены методологическим вопросам, которые в ретроспективе кажутся совершенно бесплодными — например, бесконечное рассмотрение понятия «уровни» социологического анализа. Учитывая, что предметом является повседневность, удивительно, как мало пережитого опыта повседневной жизни отражено в творчестве Лефевра. Кроме того, он так часто застревает в том, что я называю синдромом Полония — как странно, что этот знаменитый радикальный мыслитель, вдохновитель восстания в мае 68-го, так часто предостерегает, что концептуально: «Мы должны знать, как не зайти слишком далеко», всегда советуя, что понятия не должны быть ни слишком теми, ни слишком теми: «человек действия» — это тот, кто «ждет, пока ситуация созреет, но не прогниет.
of Everyday Life , я решил продолжать читать вторую и третью книги: «Основы социологии повседневности» (1961) и «От современности к модернизму (К метафилософии повседневности» (19).81). Не то чтобы это все еще не очень несовершенная, иногда сводящая с ума работа. Длинные отрезки посвящены методологическим вопросам, которые в ретроспективе кажутся совершенно бесплодными — например, бесконечное рассмотрение понятия «уровни» социологического анализа. Учитывая, что предметом является повседневность, удивительно, как мало пережитого опыта повседневной жизни отражено в творчестве Лефевра. Кроме того, он так часто застревает в том, что я называю синдромом Полония — как странно, что этот знаменитый радикальный мыслитель, вдохновитель восстания в мае 68-го, так часто предостерегает, что концептуально: «Мы должны знать, как не зайти слишком далеко», всегда советуя, что понятия не должны быть ни слишком теми, ни слишком теми: «человек действия» — это тот, кто «ждет, пока ситуация созреет, но не прогниет.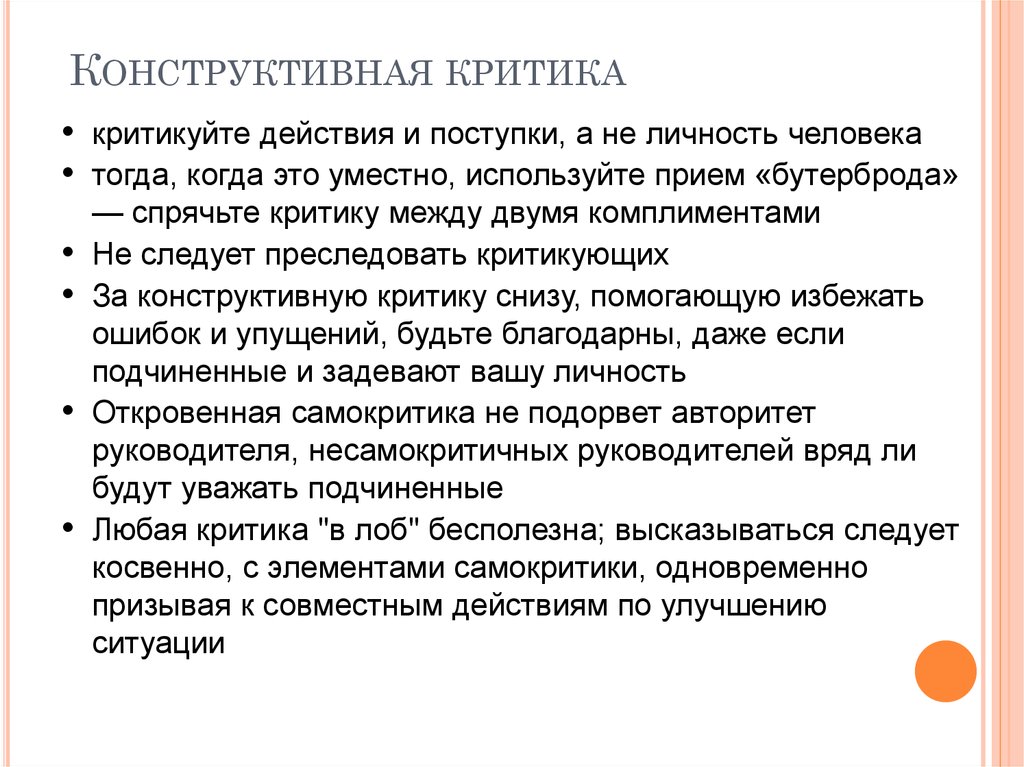 Он не торопится, избегает поспешных суждений и вмешательств, но ни в коем случае не медлит». Легко сказать, но рецепт можно заполнить только задним числом, а в остальном это банальность. Рассказывая о гипотетическом социологе, который будет проводить интервью с людьми, которых он намеревается изучать, Лефевр указывает на игру сопротивления и уклонения, связанную с любой такой операцией, и объясняет, что, ведя переговоры, социолог должен сохранять свою «научность». отрешенность и в то же время «очистить себя […] от своих идеологических и теоретических предрассудков […], но также и от своих оценочных суждений», чтобы «через возвращение к своей собственной повседневной реальности он достиг повседневной реальности людей, которых он интервью». Это погружение в повседневную реальность как раз то, на что сам Лефевр кажется неспособным. Странно: я решил, подумав, похвалить этого автора, и все же, кажется, слышу, как хороню его. Это не то, чем я хочу заниматься; и теперь, когда мне удалось избавиться от своих жалоб, может быть, на следующей неделе мне удастся продолжить в том же духе, что и на этой неделе, прежде чем я был отвлечен оговорками, которые нельзя обойти молчанием, но это тоже не последнее мое слово.
Он не торопится, избегает поспешных суждений и вмешательств, но ни в коем случае не медлит». Легко сказать, но рецепт можно заполнить только задним числом, а в остальном это банальность. Рассказывая о гипотетическом социологе, который будет проводить интервью с людьми, которых он намеревается изучать, Лефевр указывает на игру сопротивления и уклонения, связанную с любой такой операцией, и объясняет, что, ведя переговоры, социолог должен сохранять свою «научность». отрешенность и в то же время «очистить себя […] от своих идеологических и теоретических предрассудков […], но также и от своих оценочных суждений», чтобы «через возвращение к своей собственной повседневной реальности он достиг повседневной реальности людей, которых он интервью». Это погружение в повседневную реальность как раз то, на что сам Лефевр кажется неспособным. Странно: я решил, подумав, похвалить этого автора, и все же, кажется, слышу, как хороню его. Это не то, чем я хочу заниматься; и теперь, когда мне удалось избавиться от своих жалоб, может быть, на следующей неделе мне удастся продолжить в том же духе, что и на этой неделе, прежде чем я был отвлечен оговорками, которые нельзя обойти молчанием, но это тоже не последнее мое слово.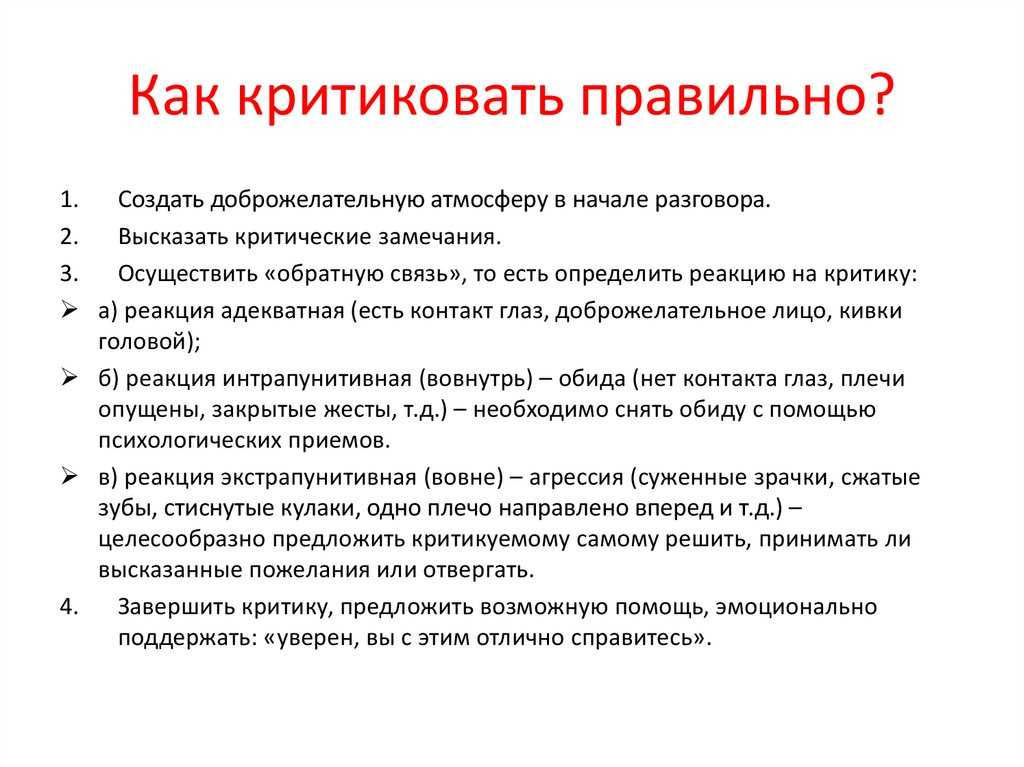
Критика повседневной жизни Анри Лефевра : The One Volume Edition , tr. Джона Мура и Грегори Эллиотта (2014 г.), опубликовано издательством Verso и доступно в Amazon и других книжных интернет-магазинах.
Последний
Бразильские художники празднуют возвращение Лулы на пост президента
«Последние четыре года были организованы культурным разрушением руками крайне правых», — сказал Hyperallergic художник Лаэрсио Кубас-младший.
Рея Найяр
Последние климатические протесты, ранжированные
Поскольку тенденция становится немного повторяющейся — хотя ее сообщение не менее актуально — мы проявили немного творчества и оценили выступления на этих выходных. Конечно же, используя банки из-под супа.🥫
от Elaine Velie
Дизайн художников Деборы Касс и Клеона Петерсона содержал критику Верховного суда, а также законов об абортах и оружии.
Жасмин Лю
художника собрались на открытие нового Института Дэвида Грэбера, который будет курировать архив неопубликованных текстов ученого и заниматься проектами, посвященными изменению климата, долгам, труду и войне.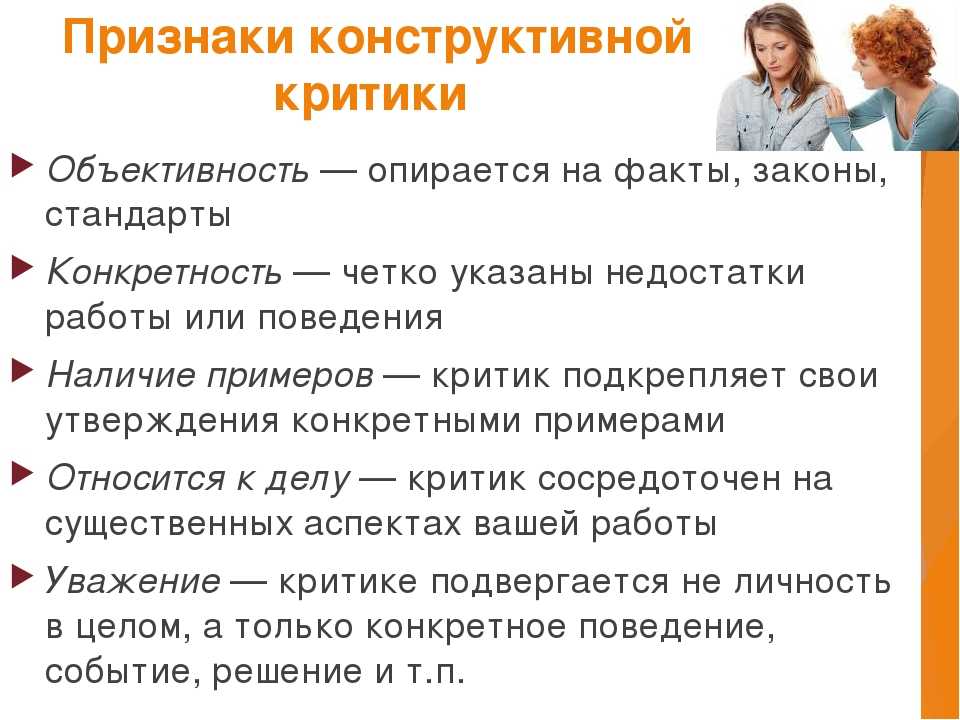
Наоми Полонски
Город Калгари поручил художнице Энни Вонг создать специальное произведение, посвященное проблемной истории парка Джеймса Шорта. Так почему же его сняли через четыре дня?
Рея Найяр
Часто существует разрыв между музейным миром и представлением цыган. Одна выставка в Национальной галерее искусств доказывает, что так быть не должно.
Кристиана Григоре
Несмотря на то, что они меньше по размеру, чем обычные работы художников, работы в «Модернизме в миниатюре» приобретают вес у своих именитых создателей.
от AX Mina
Фрески Салливана оригинальны и удивительны, но в то же время ироничны и даже дерзки; она одновременно принимает и усиливает неуклюжесть среды, оживляя свои объекты.
Карл Литтл
В книге Шеннона Таггарта «СЕАНС» описываются сверхъестественные явления в жизни спиритуалистов, ищущих, медиумов и других практикующих оккультизм.
Сара Роуз Шарп
Tagged: Анри Лефевр, Марксизм, Читательский дневник, Рецензии, Оборотная сторона, Выходные Барри Швабски — арт-критик The Nation и соредактор международных обзоров Artforum.