МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕThe Thought Experiment, Its Role in Historical Studies
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-03-00704 «Реконструкции как методологические приемы в контексте актуализации исторического познания».
Рубрика: Круглый стол «Наука и историчность»
Микешина Л. А. Мысленный эксперимент, его роль в исторической науке // Диалог со временем. 2018. Вып. 65. С. 35-47.
Ключевые слова: эпистемология, мысленный эксперимент, физическая наука, историческая наука, ценностные ориентации, Средневековье
С целью изучения и развития эпистемологии социально-гуманитарного знания рассматривается частная, но принципиально значимая эпистемологическая проблема – возможность мысленного эксперимента (МЭ) в науке истории. Показаны методология и значение МЭ в естествознании, в частности, в истории физической науки, а также в эпистемологии гуманитарного знания на примере трудов В.
Keywords: epistemology, thought experiment, physics, epistemology of the humanities, historical studies, metahistory
To investigate and develop the epistemology of social studies and the humanities, this paper examines some special features of historical studies methodologies, and, in particular, how thought experiments are possible in historical studies. To begin with, the methodology and significance of thought experiments are shown in connection to the history of physics and the humanities. The main attention is paid to thought experiments and their classical forms in historical studies: H. White’s “Metahistory”, J.
В современной интеллектуальной истории особое значение придается
созданию новых методов и переосмыслению исторически сложившихся приемов
и принципов эпистемологии истории как науки. Одно из перспективных
направлений – переосмысление форм и видов такого метода, как
эксперимент, – базового для множества существующих наук. Очевидно, что в
прямом смысле эмпирический эксперимент, по-видимому, неприемлем в
исторической науке, но возникает проблема – возможен ли мысленный
эксперимент в историческом познании, если он успешно применяется в
естественных и в социально-гуманитарных науках. В его возможности
убеждают положительные примеры такого подхода и его обоснования. Обобщая
опыт интеллектуальной истории, З.А. Чеканцева делает эпистемологически
важные выводы: текст – это не статичная структура, а «пульсирующее
пространство постоянно возникающей интерпретации, которая актуальна
только в момент чтения.
Исследование этой проблемы тесно связано с особенностями субъекта
познания в истории в отличие от других гуманитарных и социальных наук. Следует, в частности, учесть глубокое размышление-исследо-вание А.М.
Руткевича о природе исторического знания и об особенностях самого
историка-исследователя. Трактуя эксперимент в истории подобно этому
методу в естествознании, автор, по сути, закрывает возможность
исследования этой проблемы2. Но прежде чем ответить на вопрос –
возможен ли мысленный эксперимент в изучении истории прошлого и каковы
условия его применения, необходимо отметить особенности давно
применяемых экспериментов такого рода в естественных и гуманитарных
областях научного познания.
Следует, в частности, учесть глубокое размышление-исследо-вание А.М.
Руткевича о природе исторического знания и об особенностях самого
историка-исследователя. Трактуя эксперимент в истории подобно этому
методу в естествознании, автор, по сути, закрывает возможность
исследования этой проблемы2. Но прежде чем ответить на вопрос –
возможен ли мысленный эксперимент в изучении истории прошлого и каковы
условия его применения, необходимо отметить особенности давно
применяемых экспериментов такого рода в естественных и гуманитарных
областях научного познания.
Общие проблемы метода МЭ в естественных науках
Понятие мысленного эксперимента как теоретического метода давно
использовалось в истории и философии науки. Так, известны размышления
шотландского философа и ученого Т. Рида (1710–1796) о придуманных им
людях, воспринимавших мир в рамках не эвклидовой, но сферической
геометрии. В этом случае МЭ понимался как воображаемый метод,
действующий по принципу «что если бы это было возможно?»3.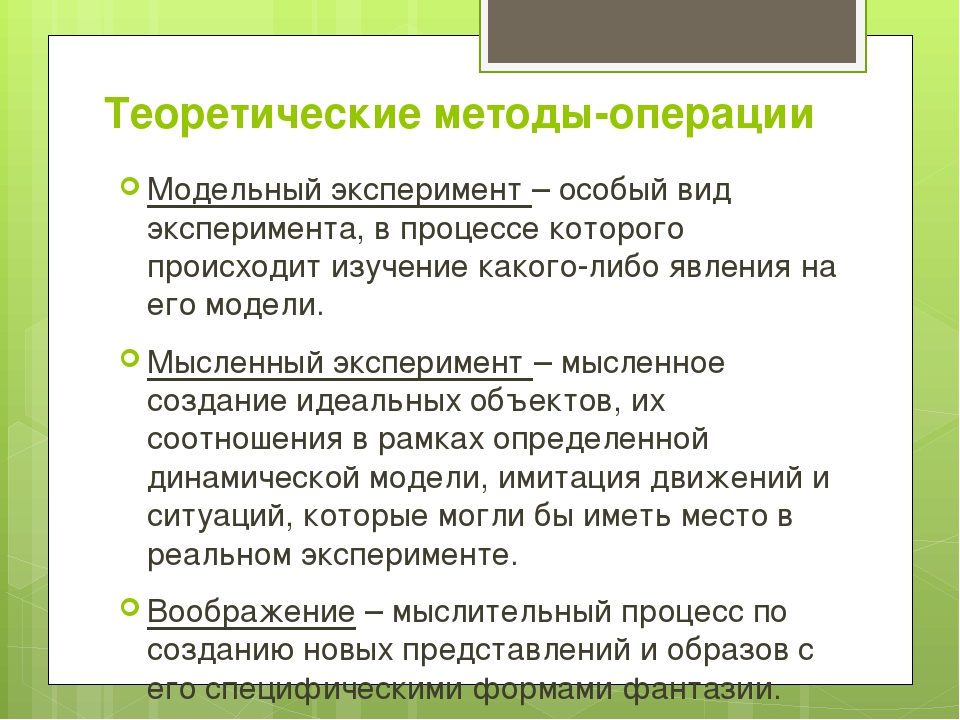 Ученые
стали осознавать, что теоретическое знание не всегда можно получить
только из прямого чувственного контакта с объектом, т.е. логически вывести из опыта, причем, как правило, с помощью
индуктивно-дедуктивного обобщения. Уже в XVII в. Галилей использовал МЭ,
рассматривая, например, движение предмета по наклонной плоскости «без
трения», при исследовании рычага и наклонной плоскости, а также допускал
возможность размышлять в контексте «воображаемой реальности». В целом он
применял МЭ для конструирования предмета теоретического исследования –
мысленного движения, инерциального движения, опираясь также на опыт
«коперниканского мышления» о небесной механике, во многом содержащего
элементы МЭ 4.
Ученые
стали осознавать, что теоретическое знание не всегда можно получить
только из прямого чувственного контакта с объектом, т.е. логически вывести из опыта, причем, как правило, с помощью
индуктивно-дедуктивного обобщения. Уже в XVII в. Галилей использовал МЭ,
рассматривая, например, движение предмета по наклонной плоскости «без
трения», при исследовании рычага и наклонной плоскости, а также допускал
возможность размышлять в контексте «воображаемой реальности». В целом он
применял МЭ для конструирования предмета теоретического исследования –
мысленного движения, инерциального движения, опираясь также на опыт
«коперниканского мышления» о небесной механике, во многом содержащего
элементы МЭ 4.
Сегодня, особенно после настойчивого утверждения Эйнштейна, что нет
прямой логической связи между теорией и реальным объектом, стали
осознавать – теория строится не по отношению к эмпирическому объекту,
но по отношению к его модели. Соответственно, МЭ применяется, как
особый способ рассуждения, специфический теоретический метод,
исследующий процессы в «чистом виде», конструирующий идеализированные
или даже неосуществимые в реальности ситуации и состояния.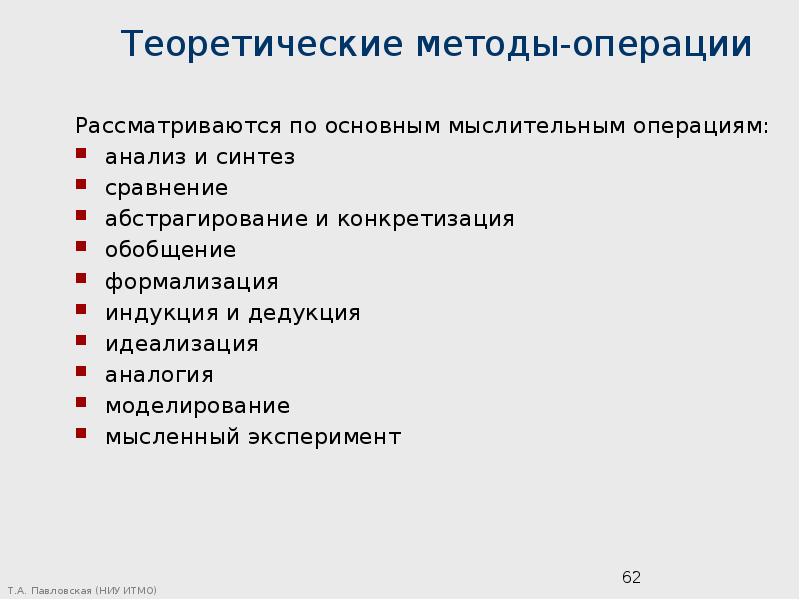
Австрийский физик и философ Э. Мах, авторитет которого был высок даже
для Эйнштейна, доказал, что кроме материального физического
эксперимента, который может предварительно продумываться-проигрываться в
воображении, «существует еще другой, получающий широкое применение на
более высокой ступени умственного развития – мысленный эксперимент или
эксперимент в уме», когда можно «изменять в мыслях обстоятельства, от
которых зависит исход того или другого опыта», а «умственные
эксперименты этого рода приводили к величайшим переворотам в нашем
мышлении и открыли самые важные пути исследования»5. Мах не только
раскрыл содержание МЭ в физике и его роль в умственной деятельности
исследователя, но и показал на многочисленных примерах неотъемлемое
присутствие МЭ во всех видах и способах исследовательской деятельности в
естественных науках .
Известно, что мысленные эксперименты с опорой на математику применялись,
особенно на первом этапе, многими учеными, создававшими физику
микромира. Выяснилось, что процессы, происходящие в микромире, относятся
к явлениям, почти полностью лежащим за пре-делами чувственных
восприятий, а поведение атомных объектов невозможно отграничить от их
взаимодействия с приборами. Однако и при переходе к реальному
эксперименту мысленный эксперимент продолжал применяться, о чем говорит,
например, известный случай: при β-распаде «нарушался?!» закон сохранения
энергии. Выход был найден физиком В. Паули, который, опираясь на
математические расчеты, пред-положил в МЭ, что вместе с электроном
возникает ещё одна незаряженная частица – «маленький нейтрон», или
нейтрино, которое оставалось, как называли физики, «бумажной частицей».
Как я понимаю, это был результат, полученный в мысленном эксперименте,
изложенный «на бумаге». Подтверждение значимости МЭ находим и у
Эйнштейна, который считал, что «дозволительно оперировать в мысли с
вещами,  е. такими, которые противоречат
нашему повседневному опыту, но не с полнейшей бессмыслицей»6.
Известен его «классический» МЭ «вне и внутри лифта», который также
показал «важность идеализированного эксперимента, созданного
мышлением»7. Итак, история становления и развития физики элементарных
частиц, квантовой механики содержит много примеров применения МЭ как
значимой для науки теоретической операции, в пределах которой возможны
даже противоречия известным законам природы.
е. такими, которые противоречат
нашему повседневному опыту, но не с полнейшей бессмыслицей»6.
Известен его «классический» МЭ «вне и внутри лифта», который также
показал «важность идеализированного эксперимента, созданного
мышлением»7. Итак, история становления и развития физики элементарных
частиц, квантовой механики содержит много примеров применения МЭ как
значимой для науки теоретической операции, в пределах которой возможны
даже противоречия известным законам природы.
В отечественной теории познания и методологии науки исследование МЭ
осуществил в 1960-х гг. философ европейского уровня профессор
Ленинградского университета В.А. Штофф. Он отличал МЭ от операции
теоретически обоснованного, поэтапного продумывания реально-го
эксперимента: МЭ – особая теоретическая операция, воображаемое,
мысленное воспроизведение проблемы, в основе ее лежит идеальная модель
объекта в специфической функции. Он полагал, что, МЭ, являясь формой
абстрактного мышления ученого, тем не менее имеет и объективное
содержание, поскольку опирается на научно обоснованное знание (факты,
принципы и свойства заново открытого реального объекта) и на признанную
научную теорию, требующую дальнейшего развития8. Штофф также показал,
что МЭ, являясь необходимой теоретической формой научного мышления и
способствуя разработке теории, в то же время не может рассматриваться
как эмпирическая проверка и метод подтверждения/опровержения знания, у
него другая – теоретическая – функция в построении и обосновании теории.
Вместе с тем МЭ еще недостаточно изучен
Штофф также показал,
что МЭ, являясь необходимой теоретической формой научного мышления и
способствуя разработке теории, в то же время не может рассматриваться
как эмпирическая проверка и метод подтверждения/опровержения знания, у
него другая – теоретическая – функция в построении и обосновании теории.
Вместе с тем МЭ еще недостаточно изучен
Мысленный эксперимент в гуманитарном и социальном познании
В гуманитарном исследовании МЭ должен иметь не меньшее значение и частое
применение в силу особенностей искусственно создаваемых в воображении
или существовавших в прошлом объектов и специфической методологии этих
форм научного знания. В европейской эпистемологии мысленному
эксперименту в гуманитарном знании уделяют все больше внимания. Р.
Николози в своем исследовании «Мысленные эксперименты в литературе.
Контрафактическая аргументация в «Русских ночах» В. Одоевского»10 настаивает на значимости МЭ и обращается к художественным текстам В.Ф.
Одоевского, русского писателя и деятеля культуры (эпохи и окружения А.С.
Пушкина), в творчестве которого особенно ярко выражено слияние
литературы и философии. (Видимо, поэтому статья в немецком сборнике
написана автором на языке источника – русском). Для двух рассказов из
«Русских ночей» – «Последнее самоубийство» и «Город без имени», –
Николози предложил интерпретацию, основанную на их атрибуции как
«контрафактических мысленных экспериментов, опровергающих теоретические
аксиомы». Он напоминает, что уже ранее русский исследователь П. Сакулин
(1913) исходил из того, что оба рассказа написаны «по экспериментальному
методу»: «Последнее самоубийство» представляет доведение до абсурда
экономических идей Т. Мальтуса; «Город без имени» показывает, какая
участь ожидает последовательных «бентамитов», т.е. приверженцев
философии и этики утилитаризма И. Бентама.
Одоевского»10 настаивает на значимости МЭ и обращается к художественным текстам В.Ф.
Одоевского, русского писателя и деятеля культуры (эпохи и окружения А.С.
Пушкина), в творчестве которого особенно ярко выражено слияние
литературы и философии. (Видимо, поэтому статья в немецком сборнике
написана автором на языке источника – русском). Для двух рассказов из
«Русских ночей» – «Последнее самоубийство» и «Город без имени», –
Николози предложил интерпретацию, основанную на их атрибуции как
«контрафактических мысленных экспериментов, опровергающих теоретические
аксиомы». Он напоминает, что уже ранее русский исследователь П. Сакулин
(1913) исходил из того, что оба рассказа написаны «по экспериментальному
методу»: «Последнее самоубийство» представляет доведение до абсурда
экономических идей Т. Мальтуса; «Город без имени» показывает, какая
участь ожидает последовательных «бентамитов», т.е. приверженцев
философии и этики утилитаризма И. Бентама.
Какие эпистемологические предпосылки позволяют утверждать, что речь
здесь идет именно о мысленных экспериментах? В каких отношениях друг к
другу стоят философская и литературная аргументация? Какую роль играют
при этом контрафактическая структура текстов и их фикциональный
характер?11 Ответы на эти вопросы ищут сегодня, изучая природу МЭ в
широком контексте темы «эксперимент и литература», причем эксперимент
рассматривается не только как инструмент проверки теории и гипотез, но и
как творческая практика, в известной степени существующая независимо от
теории. В этом контексте МЭ попадает в поле зрения как теории науки, так
и теории литературы. Пока теоретики науки оживленно спорят о функции и
эпистемологической валентности МЭ, литературоведы уже используют
мысленный эксперимент как «побуждающий литературу и науку к слиянию»,
соединяющий в себе эмпирику и воображение. Но «трансформационные
механизмы» до сих пор не исследованы в полной мере, как и вопрос, при
каких структурных и эпистемологических предпосылках возможен разговор о
МЭ как художественно-исследовательском методе.
В этом контексте МЭ попадает в поле зрения как теории науки, так
и теории литературы. Пока теоретики науки оживленно спорят о функции и
эпистемологической валентности МЭ, литературоведы уже используют
мысленный эксперимент как «побуждающий литературу и науку к слиянию»,
соединяющий в себе эмпирику и воображение. Но «трансформационные
механизмы» до сих пор не исследованы в полной мере, как и вопрос, при
каких структурных и эпистемологических предпосылках возможен разговор о
МЭ как художественно-исследовательском методе.
На примере текстов Одоевского Николози указывает лишь на то, что эти МЭ
позволяют показать «разочарование в вере в абсолютную теорию»,
«катастрофические последствия рационалистического упрямства»,
«прогрессирующий процесс… разочарования в экономической теории»
Мальтуса. В «Городе без имени» представлено возвышение и падение воображаемого государства, основанного на принципах утилитаристской
этики Бентама. Оба рассказа, написанные Одоевским, – это мысленные
эксперименты, представленные как рассуждения о центральных экономических
теориях XIX в. Автор «Русских ночей» Одоевский, как и исследователь
Николози, объединяют эти тексты не столько общим научно-теоретическим
фоном (политическая экономия), сколько типом повествования, выходящего
за рамки утопического, фантастического и являющегося, прежде всего,
мысленным экспериментом.
Автор «Русских ночей» Одоевский, как и исследователь
Николози, объединяют эти тексты не столько общим научно-теоретическим
фоном (политическая экономия), сколько типом повествования, выходящего
за рамки утопического, фантастического и являющегося, прежде всего,
мысленным экспериментом.
Мысленный эксперимент в исторической науке
Главной проблемой в данной статье для меня как эпистемолога является место и роль мысленного эксперимента в исторической науке. Эта
проблема в последние полвека активно разрабатывается историками. В
исторической науке, получающей информацию только от различного рода
свидетельств и документов, т.е. имеющей дело с предполагаемой
реальностью, МЭ как исследовательский прием необходим. МЭ
присутствовал уже в классическом труде Дж. Вико «Основания новой науки
об общей природе наций» (1725), например, при объяснении истории Гомером
или почему нация была названа франками12 и др. По-видимому метод МЭ
для историков становился неосознанной нормой, если они не могли
непосредственно обратиться к документам. Еще Р. Дж. Коллингвуд,
размышляя об истории как воспроиз-ведении прошлого опыта, писал, что
«историк должен воспроизводить прошлое в собственном сознании… и только
в той мере, в какой ему это удается, он получит историческое, а не
просто филологическое знание»13. Именно такое понимание дает нам
право говорить о применении МЭ в историческом знании, особенно, если
речь идет о периодах, не имеющих документальных свидетельств.
По-видимому метод МЭ
для историков становился неосознанной нормой, если они не могли
непосредственно обратиться к документам. Еще Р. Дж. Коллингвуд,
размышляя об истории как воспроиз-ведении прошлого опыта, писал, что
«историк должен воспроизводить прошлое в собственном сознании… и только
в той мере, в какой ему это удается, он получит историческое, а не
просто филологическое знание»13. Именно такое понимание дает нам
право говорить о применении МЭ в историческом знании, особенно, если
речь идет о периодах, не имеющих документальных свидетельств.
Появились и труды, принципиально написанные на основе мысленного
эксперимента, как, например, работа Х. Уайта «Метаистория. Историческое
воображение в Европе XIX века» (1978). Как известно, он исходит из того,
что «описание истории остается риторическим и литературным», используя
письмо как средство для изложения и обсуждения результатов исследования
прошлого. Опираясь на «тропологическую теорию дискурса» от Вико, Р.
Барта, М. Фуко, А.Ж. Греймаса и др., он понимает историю как
«теоретическое объяснение вымышленного дискурса… типы образов и связи
между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь
вообразить, а не воспринять непосредственно»14 и подчеркивает, что
дискурсивные связи «не являются логическими связями или дедуктивными
соединениями одного с другим», они основаны на «поэтических техниках».
Само объяснение в историческом знании состоит из «комбинации
логико-дедуктивных и тропологически-фигуративных компонентов» (метафоры,
метонимии, синекдохи и иронии). Историк, по Уайту, по существу,
префигурирует, т.е. «предварительно, заранее мысленно рисует,
представляет в своем воображении» (курсив мой – Л.М.) события
истории. Итак, мы имеем случай, когда автор, опираясь на МЭ при
построении метаистории, само построение исторического знания также
трактует как мысленный эксперимент особого историко-литературного
воображения.
Фуко, А.Ж. Греймаса и др., он понимает историю как
«теоретическое объяснение вымышленного дискурса… типы образов и связи
между ними, способные служить знаками реальности, которую можно лишь
вообразить, а не воспринять непосредственно»14 и подчеркивает, что
дискурсивные связи «не являются логическими связями или дедуктивными
соединениями одного с другим», они основаны на «поэтических техниках».
Само объяснение в историческом знании состоит из «комбинации
логико-дедуктивных и тропологически-фигуративных компонентов» (метафоры,
метонимии, синекдохи и иронии). Историк, по Уайту, по существу,
префигурирует, т.е. «предварительно, заранее мысленно рисует,
представляет в своем воображении» (курсив мой – Л.М.) события
истории. Итак, мы имеем случай, когда автор, опираясь на МЭ при
построении метаистории, само построение исторического знания также
трактует как мысленный эксперимент особого историко-литературного
воображения.
Ф. Анкерсмит, автор специального исследования концепции Уайта «История и
тропология: взлет и падение метафоры» (1994), признает, что
тропологическая «идея абсолютно верна и плодотворна», это новая
парадигма в исторической теории, когда имеют дело с историческим текстом
в целом, однако «нельзя ждать от теории истории Уайта решения
эпистемологического вопроса о том, почему один текст может лучше
репрезентировать прошлое, чем другой»15. В мою задачу не входило
обсуждение дискуссии о правомерности и значимости концепции Уайта, как
одной из крупнейших находок в метаистории. Цель другая –показать
важнейшую роль МЭ, который в историческом познании имеет свою
оригинальную природу и самостоятельное значение.
В мою задачу не входило
обсуждение дискуссии о правомерности и значимости концепции Уайта, как
одной из крупнейших находок в метаистории. Цель другая –показать
важнейшую роль МЭ, который в историческом познании имеет свою
оригинальную природу и самостоятельное значение.
Одной из актуальных проблем для историков стало сегодня новое понимание
эпохи Средневековья. Именно здесь МЭ в полной мере показывает свои
возможности, поскольку Средневековье, особенно раннее, часто не
предоставляет прямых свидетельств и документов или, например, основных
понятий и категорий языка «безмолвствующего большинства». Обогатилась
методология исследования, а главное – изменилось отношение к
Средневековью. Возросший интерес к Средневековью проявился, в частности,
в стремлении заменить МЭ реальными, материальными историческими
экспериментами – осуществить современное строительство профессиональными
архитекторами средневекового замка XIII в. (Франция), рыцарского бурга
(Австрия) и раннесредневекового монастыря по сант-галленскому плану IX
века (Германия). 16 Такие эксперименты бесценны во всех смыслах,
однако, воспроизводя огромный объем знаний о Средневековье, они не
только предельно дороги, но и не дадут полной картины знаний и
представлений о менталитете «безмолствующего большинства». Необходимость
МЭ, как и изучения его эпистемологических возможностей в исторической
науке, сохраняется.
16 Такие эксперименты бесценны во всех смыслах,
однако, воспроизводя огромный объем знаний о Средневековье, они не
только предельно дороги, но и не дадут полной картины знаний и
представлений о менталитете «безмолствующего большинства». Необходимость
МЭ, как и изучения его эпистемологических возможностей в исторической
науке, сохраняется.
Метод МЭ сыграл значительную роль в исследованиях Жака Ле Гоффа.
Принципиальный подход французского историка – найти способы изучения не
«бесплотной истории идей», а «духовной жизни на уровне масс» и изучения
их ментальности как нового измерения истории «в недрах исторических
систем»17. Не используя понятия МЭ, он принял и по-своему реализовал
идущую от М. Блока и Л. Февра идею творческой активности исследователя:
если свидетельства сами по себе немы, необходимо их включение в сферу
анализа, осуществляемого историком. Очевидно, что в этом случае МЭ
становится одним из ведущих методов исследования коллективных
представлений и образа мира, например, неграмотного большинства
средневекового общества. Так, при исследовании формирования идей о чистилище – этого нематериального объекта исследования – историк
выдвигает и обосновывает предположение о том, что в данном случае
«ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи
с потребностью самоуспокоения» перед «творимыми дьяволом опасностями»,
неуверенностью в будущем и возможностью блаженства в загробной жизни. В
этом случае историку приходится опираться не на свидетельства, а на т.н. глоссы – обязательные толкования, как аргументы авторитетов и
традиции, которые позже проникли и в учебники университетов, но в свою
очередь были результатом мысленных предположений и воображения18.
Так, при исследовании формирования идей о чистилище – этого нематериального объекта исследования – историк
выдвигает и обосновывает предположение о том, что в данном случае
«ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи
с потребностью самоуспокоения» перед «творимыми дьяволом опасностями»,
неуверенностью в будущем и возможностью блаженства в загробной жизни. В
этом случае историку приходится опираться не на свидетельства, а на т.н. глоссы – обязательные толкования, как аргументы авторитетов и
традиции, которые позже проникли и в учебники университетов, но в свою
очередь были результатом мысленных предположений и воображения18.
Работа Ле Гоффа «С небес на землю» – блестящая догадка, обобщение, во
многом опирающееся на МЭ как выдвижение идеи возможных ценностных
ориентаций и ее обоснование не только документами, но и во многом
гипотезами, предположениями, догадками в условиях отсутствия реальных
свидетельств. Главная его идея – это «период осознания великого подъема
(приходящегося на эпоху высокого средневековья) и одновременной
перестройки ценностных ориентаций как время низведения высших небесных
ценностей на бренную землю. Идея состоит в том, что… центральным
оказалось именно обращение к земному миру и его ценностям». Для автора
«история, о которой идет здесь речь, – история ментальная. Она оперирует
понятиями идеологии и мира воображения… Эта история не всегда получает
эксплицитное выражение. Она требует специального анализа источников, ибо
это – история неявного, имплицитного»19. Это убедительный и
предельно доказательный МЭ в исследованиях по истории Средневековья,
который опирается не только на значительный исторический материал, но и
на обоснованные предположения и вероятностные научные выводы автора, а
также соответствует принципам современной эпистемологии и теории
ценностей. Как мне представляется, Ле Гофф существенно продвинул
понимание и успешное применение мысленного эксперимента в исторической
науке.
Идея состоит в том, что… центральным
оказалось именно обращение к земному миру и его ценностям». Для автора
«история, о которой идет здесь речь, – история ментальная. Она оперирует
понятиями идеологии и мира воображения… Эта история не всегда получает
эксплицитное выражение. Она требует специального анализа источников, ибо
это – история неявного, имплицитного»19. Это убедительный и
предельно доказательный МЭ в исследованиях по истории Средневековья,
который опирается не только на значительный исторический материал, но и
на обоснованные предположения и вероятностные научные выводы автора, а
также соответствует принципам современной эпистемологии и теории
ценностей. Как мне представляется, Ле Гофф существенно продвинул
понимание и успешное применение мысленного эксперимента в исторической
науке.
Ценные результаты при осуществлении мысленных экспериментов получены
А.Я. Гуревичем, он также размышлял о применении и обосновании
используемых им методов, в т.ч. и МЭ, и неоднократно использовал это
понятие, в частности, в статьях в «Одиссее», где обсуждались проблемы
«ремесла историка на исходе ХХ века», т. е. эпистемологии исторического
исследования. Так, рассуждая об «альтернативности исторического
развития» и отрицая идею «всеобщего детерминизма», он поставил проблему
«интеллектуального эксперимента в истории (курсив мой – Л.А.)»20. Он продолжая обсуждать проблему в статье «Территория
историка» и отвечая на вопрос Л.М. Баткина, откуда взялся тот набор
элементов или категорий, из которых историк выстроил модель далекой
средневековой культуры. На протяжении ряда лет в многочисленных
публикациях он отвечал на этот принципиальный вопрос, излагая, по сути,
принципы МЭ в истории. Критически относясь к приемам постмодернистов,
Гуревич вместе с тем видел в них новое подтверждение «необходимости
повышения саморефлексии историка». Важнейший этап МЭ – выбор и
осмысление источника, а «исторический источник – создание человека».
А.Я. Гуревич считал необходимым подвергнуть источники, по его
собственному выражению, «мысленному эксперименту», чтобы обнаружить,
например, типологическое сходство франкского общества VI–VII вв. со
скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах. Кроме того, в текстах
может присутствовать косвенная, не прямая информация. Опыт этого
историка остается пока самым убедительным, поэтому обращаюсь к двум его
примерам, или case studies.
е. эпистемологии исторического
исследования. Так, рассуждая об «альтернативности исторического
развития» и отрицая идею «всеобщего детерминизма», он поставил проблему
«интеллектуального эксперимента в истории (курсив мой – Л.А.)»20. Он продолжая обсуждать проблему в статье «Территория
историка» и отвечая на вопрос Л.М. Баткина, откуда взялся тот набор
элементов или категорий, из которых историк выстроил модель далекой
средневековой культуры. На протяжении ряда лет в многочисленных
публикациях он отвечал на этот принципиальный вопрос, излагая, по сути,
принципы МЭ в истории. Критически относясь к приемам постмодернистов,
Гуревич вместе с тем видел в них новое подтверждение «необходимости
повышения саморефлексии историка». Важнейший этап МЭ – выбор и
осмысление источника, а «исторический источник – создание человека».
А.Я. Гуревич считал необходимым подвергнуть источники, по его
собственному выражению, «мысленному эксперименту», чтобы обнаружить,
например, типологическое сходство франкского общества VI–VII вв. со
скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах. Кроме того, в текстах
может присутствовать косвенная, не прямая информация. Опыт этого
историка остается пока самым убедительным, поэтому обращаюсь к двум его
примерам, или case studies.
Case study 1. Категории ранней средневековой культуры – язык и понятия «безмолвствующего большинства». Автор так определяет свою задачу: «внимание направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, «психического инструментария», «духовной оснастки» людей средних веков – того уровня интеллектуальной жизни общества, …установление способов мировосприятия, присущих самым различным членам общества»21. При этом обязательно учитывать «культурный контекст», и вместо неопределенности ментальности вообще Гуревич предложил определенный набор категорий – время, пространство, право, труд, богатство и собственность, который дополнил позже понятиями смерть и потусторонний мир. Однако историк подчеркивает известную мысль Ле Гоффа: «феодализм – это мир жестов, а не записанного слова» и справедливо добавляет, что письменность не передает полностью основного массива человеческих представлений Средневековья. Вот в этом случае и возникает необходимость особого, преимущественно мысленного эксперимента, найденные Гуревичем форма, конкретные факты и события которого позволяют выйти на «культуру безмолвствующего большинства».
Каким образом можно изучать менталитет и словарно-понятийный «запас» не писавшего и не читавшего большинства? Очевидно, что по косвенным свидетельствам, восполняя и трактуя их на основании существующих непрямых текстов. Историк, как известно, изучил существующие не на традиционной латыни для священников и ученых мужей, но на родном для рядовых слушателей немецком языке тексты нескольких десятков проповедей одного из самых известных проповедников этого времени Бертольда Регенсбургского (ок. 1210–1272 гг.). Их прочтение, авторский комментарий позволяют осуществить научно обоснованное мысленное, вероятностное воссоздание словарно-понятийного запаса слушателей проповедей в церквях и на площадях (не оставивших письменных свидетельств). Выбор проповеди как «жанра» непосредственного общения с «безмолвствующим большинством», Гуревич обосновал не только при анализе пасторской деятельности Бертольда Регенсбургского, но и в специальном изучении этой проблемы22. Именно это явилось научным основанием мысленного эксперимента историка. Для него «проповедь – в высшей степени важный источник для изучения народной ментальности в Средние века», так как проповедник обращается прежде всего к рядовым прихожанам и «действует в гуще народа», близко знает его жизнь, знает его представителей. Разумеется, Гуревич осознает, что этот «социальный анализ» представляет только один из возможных «срезов» религиозных и морально-общественных представлений, погруженный с помощью МЭ в реалии раннего средневековья.
Эти же тексты Бертольда, где «личность… занимает подобающее ей место главы всего смыслового ряда», историк использует как основания МЭ для признания того, существовало ли само понятие личности и как оно трактовалось в раннем средневековье рядовыми прихожанами. Тем самым Гуревич убедительно обосновывает свою позицию в дискуссии в отечественной культурно-исторической эпистемологии и гуманитарной науке, в частности, с Л.М. Баткиным о категории личности и правомерности ее применения для раннего Средневековья23.
Case study 2. Другой вид МЭ был осуществлен Гуревичем, когда он разрабатывал и применял его при исследовании проблемы «индивид, личность и общество», опираясь на скандинавские тексты раннего Средневековья. Он полагал, что эти исторические источники могут выглядеть «иначе, будучи подвергнуты следующему мысленному эксперименту (курсив мой – Л.М.). Существует известное основание для того, чтобы сопоставить франкское общество VI–VII вв. со скандинавским обществом, как оно рисуется в сагах и записях древнего права, ибо при различии во времени их фиксации налицо, несомненно, типологическое сходство. <…> Если подобное сопоставление допустимо, то оно дало бы возможность историку несколько глубже понять, какого типа индивиды… были представлены в существующих законах»24.
Один из важных моментов этого МЭ состоит в том, что, прослеживая историю конкретных эддических песен и смены типов эпико-мифо-логической поэзии, (это факты-тексты в руках у исследователя), историк не теряет из виду самого человека, высказывая предположение, что «в поздних эддических песнях этот неперсонализованный мир уже распадается на субъекты и объекты», появляется рациональность нового типа, «суть дела… не в смене жанров, но в смене типов сознания»25. Опираясь на результаты изучения косвенных документов Раннего Средневековья, в частности, разных саг и песен «Эдды», обращаясь к их героям, используя различные формы и приемы мысленного эксперимента, Гуревич пишет не просто об индивидах, он доказывает: «перед нами личность, и в сагах к ней проявляется живой и неизменный интерес. Но личность эта исторически конкретна и весьма непохожа на новоевропейскую личность, которую мы вольно или невольно принимаем за эталон. Скандинав не оторван от своего органического коллектива и может быть понят только в качестве члена этого коллектива. Сознание его не индивидуалистично, он мыслит категориями целого – своей группы, он смотрит на себя самого как бы извне, глазами общества»26. Трактовка личности и индивидуальности в средневековой Европе затрудняла понимание ее особенностей потому, что «уникальность личности, ее несходство с другими воспринимались как нечто греховное и ненормальное… И в результате его подлинное Я ускользает от нашего взора»27.
Обращение к истории Скандинавии и использование, помимо прочего, метода МЭ позволяют А.Я. Гуревичу обосновать еще одно утверждение. Известно, что Я. Бурхардт, К. Лампрехт и другие историки, полагали, что человеческая индивидуальность впервые возникает в эпоху Ренессанса. Но эти известные ученые были ограничены латинскими источниками, не имели в своем распоряжении исторических документов о раннем Средневековье североевропейской культуры, ее песнях, сагах и других свидетельствах. Обращение к новому региону, богатому средневековыми источниками, позволило получить, в т.ч. и путем обоснованного МЭ, новые результаты.
Таким образом, современная эпистемология в понимании сложного и неоднозначно оцениваемого метода мысленного эксперимента в научных исследованиях представителей гуманитарных наук, в истории, в частности, получает подтверждение его правомерности, необходимости и плодотворности не только в естественных науках, но и в социально-гуманитарном знании, в особенности в историческом, где он необходим в еще большей мере в силу специфики – исчезновения в пространстве и во времени источников и свидетельств, а также в связи с особенностями эпистемологии этого типа знания.
БИБЛИОГРАФИЯ
Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 400 с.
Арнаутова Ю.Е. О формировании нового «образа Средневековья // Новое прошлое / The New Past. № 1. 2016. С. 26-37.
Ахутин А.В. Эксперимент и природа. СПб, Наука, 2012. 660 с.
Вико Дж. Основания новой науки: об общей природе наций. М.- Киев. «REFL – book», «ИСА», 1994. 656 с.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., Искусство,1984. 351 с.
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. 367 с.
Гуревич А.Я. Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры // Одиссей. Человек в истории. М., «Наука», 1990.
Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода // Одиссей. Человек в Истории. М., «Coda», 1996.
Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей. Человек в истории. М., «Coda», 1996.
Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом западе. М., РОССПЭН. 2005. 422 с.
Коллингвуд Р. Дж. Идея Истории. Автобиография. М., Наука, 1980. 486 с.
Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М., «Наука», 1991.
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия, 1992. 176 с.
Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М., БИНОМ. Лаборатория знаний. 2003 .456 с.
Мошковский А. Альберт Эйнштейн. Беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира. М., «Работник просвещения», 1922. 210 с.
Николози Р. Мысленные эксперименты в литературе. Контрафактуальная аргументация в Русских ночах В. Одоевского / Wiener Slawistischer Almanach , Biblion Media GmbH. Leipzig. 76 (2015). 225 p.
Одоевский В.Ф. Соч. в двух томах. Т.I . М.: Худож. лит., 1981. 355 с.
Руткевич А.М. Прошлое историка. Препринт WP 6/ 2006/03. М. ГУ ВШЭ, 2006. 56 с.
Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2002. 528 с.
Филатов В.П. Мысленные эксперименты в науке и философии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 25. № 3. С. 5–15.
Филатов В.П. Мысленные эксперименты и априорное познание // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 49. № 3. С. 17–27.
Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю. Кн. 2 // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLV. № 3. С. 238–245.
Чеканцева З.А. Современное историописание как компонент гуманитарного дискурса // Диалог со временем. 2004. Вып. 11. С. 360-371.
Штофф В.А. Моделирование и философия. М.: Наука. 1966. 302 с.
Эйнштейн А. Физика и реальность. Сб. ст. М.: Наука. 1965. 360 с.
REFERENCES
Ankersmit F.R. Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metaforyi. M., «Kanon» ROOI «Reabilitatsiya», 2009. 400 s.
Arnautova Yu.E. O formirovanii novogo «obraza Srednevekovya // Novoe proshloe / The New Past. 2016. N 1. S. 26-37.
Ahutin A.V. Eksperiment i priroda. SPb, Nauka, 2012. 660 s.
Viko Dzh. Osnovaniya novoy nauki: ob obschey prirode natsiy. M.- Kiev. «REFL – book», «ISA», 1994. 656 s.
Gurevich A.Ya. Kategorii srednevekovoy kulturyi. M., Iskusstvo,1984. 351 s.
Gurevich A.Ya. Kultura i obschestvo srednevekovoy Evropyi glazami sovremennikov. M., 1989. 367 s.
Gurevich A.Ya. Esche neskolko zamechaniy k diskussii o lichnosti i individualnosti v istorii kulturyi // Odissey. Chelovek v istorii. M., «Nauka», 1990.
Gurevich A.Ya. Istorik kontsa XX veka v poiskah metoda // Odissey. Chelovek v Istorii. M., «Coda», 1996.
Gurevich A.Ya. «Territoriya istorika» // Odissey. Chelovek v istorii. M., «Coda», 1996. 368 s.
Gurevich A.Ya. Individ i sotsium na srednevekovom zapade. M., ROSSPEN. 2005. 422 s.
Kollingvud R. Dzh. Ideya Istorii. Avtobiografiya. M., Nauka, 1980. 486 s.
Le Goff Zh. S nebes na zemlyu (Peremenyi v sisteme tsennostnyih orientatsiy na hristianskom Zapade (XII–XIII vv.) //Odissey. Chelovek v istorii. M., «Nauka», 1991.
Le Goff Zh. Tsivilizatsiya srednevekovogo Zapada. M., Progress-Akademiya, 1992. 176 s.
Mah E. Poznanie i zabluzhdenie. Ocherki po psihologii issledovaniya. M., BINOM. Laborato-riya znaniy. 2003 .456 s.
Moshkovskiy A. Albert Eynshteyn. Besedyi s Eynshteynom o teorii otnositelnosti i obschey sisteme mira. M., «Rabotnik prosvescheniya», 1922. 210 s.
Nikolozi R. Myislennyie eksperimentyi v literature. Kontrafaktualnaya argumentatsiya v Russkih nochah V. Odoevskogo / Wiener Slawistischer Almanach , Biblion Media GmbH. Leipzig 76 (2015). 225 p.
Odoevskiy V.F. Soch. v dvuh tomah. T.I . M., Hudozh. lit., 1981. 355 s.
Rutkevich A.M. Proshloe istorika. Preprint WP 6/ 2006/03. M. GU VShE, 2006. 56 s.
Uayt H. Metaistoriya. Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka. Ekaterinburg. Izd. Ural. un-ta. 2002. 528 s.
Filatov V.P. Myislennyie eksperimentyi v nauke i filosofii // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2010, T. 25. N 3. S. 5–15.
Filatov V.P. Myislennyie eksperimentyi i apriornoe poznanie // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2016. T. 49. N 3. S. 17–27.
Hyuell U. Filosofiya induktivnyih nauk, opirayuschayasya na ih istoriyu. Kn. 2 // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2015. T. XLV. N 3. S. 238–245.
Chekantseva Z.A. Sovremennoe istoriopisanie kak komponent gumanitarnogo diskursa // Dialog so vremenem. 2004. Vyp. 11. S. 360-371.
Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya. M., Nauka. 1966. 302 s.
Eynshteyn A. Fizika i realnost. Sb. st. M., Nauka. 1965. 360 s.
Слов: 3393 | Символов: 22936 | Параграфов: 27 | Сносок: 27 | Библиография: 50 | СВЧ: 14
Мысленный эксперимент как объективный метод исследования
Реальный эксперимент обычно имеет ограниченную сферу применения. Иногда он не осуществим по экономическим соображениям или в связи с его сложностью. Часто материальный эксперимент не дает желаемого результата, поскольку его возможности ограничены уровнем развития знания и техники. Только мысленный эксперимент, в котором логическое мышление и творческое воображение исследователя сочетаются с экспериментальным и теоретическим материалом, позволяет оттолкнуться от реальной действительности и пойти дальше — понять и исследовать то, что раньше казалось неразрешимой загадкой. Во всех тех случаях, когда для познания наиболее глубоких сущностей нужен эксперимент при высокой степени абстракции от реальных условий, исследователь обращается именно к мысленному эксперименту.
Мысленные эксперименты не придумываются совершенно произвольно, а представляют собой мыслительные операции, удовлетворяющие определенным требованиям и принципам проверенной научной теории. Как и в любом другом теоретическом построении, в мысленном эксперименте все операции должны подчиняться некоторым правила, вытекающим из знания объективных законов науки. Соблюдение этого условия служит гарантией высокой степени достоверности знаний, полученных в ходе исследования.
Мысленный эксперимент — это эксперимент в сфере сознания, в котором ведущая роль принадлежит мышлению. Этим определяется его субъективная сторона. Однако тот факт, что мысленный эксперимент реализуется целиком и полностью на уровне сознания, говорит о том, что его содержание объективно.
Оценивая мысленный эксперимент, нельзя к нему относиться как к готовому знанию; в этом случае он играет роль простой иллюстрации. Также нельзя сводить его содержание только к обдумыванию, планированию материального эксперимента (хотя он всегда предшествует материальному эксперименту). Мысленный эксперимент является скорее продолжением и обобщением, схематизацией последнего, нежели наоборот.
Ценность мысленного эксперимента, во-первых, состоит в том, что он позволяет исследовать ситуации, неосуществимые практически, хотя и возможные принципиально. Во-вторых, он позволяет в ряде случаев осуществлять познание и проверку истинности знаний, не прибегая к материальному экспериментированию. Однако, поскольку мысленный эксперимент является одновременно прямым и модельным, опосредованность связи субъекта с объектом исследования в конечном итоге требует практической проверки полученных результатов. Если в материальном эксперименте уже сам ход его служит подтверждением истинности «посылок», то этого нельзя сказать об эксперименте мысленном: свою окончательную оценку мысленный эксперимент может получить только в процессе проверки его результатов на практике.
Подводя итог, можно охарактеризовать мысленный эксперимент как эвристическую операцию следующими особенностями: 1) это познавательный процесс, принимающий структуру реального эксперимента; 2) вся цепь рассуждений ведется в нем на базе наглядных образов; 3) мысленное экспериментирование связано с процессом идеализации; 4) по своей логической структуре оно представляет собой гипотетико-дедуктивное построение; 5) механизм мысленного эксперимента не автоматизирован, а связан с процессом решения возникшей в ходе исследования задачей; 6) мысленное экспериментирование осуществляется на основе выработки программы, плана-схемы мыслительных действий по переработке исходной информации; 7) мысленный эксперимент сочетает в себе силу формального вывода с экспериментальной достоверностью.
Таким образом, мысленный эксперимент — форма мышления, объективно возникшая как результат активного воздействия человека на природу. Специфика этой формы состоит в том, что абстрактное и конкретное, рационально-понятийное и чувственно-наглядное составляют в ней диалектическое единство. Мысленный эксперимент есть эффективное средство получения новых знаний о мире.
См. также
Экспериментальная психология
RSS [email protected]
Мысленный эксперимент — Психологос
Многие исследователи в процессе обсуждения и дискуссии практикуют мысленные эксперименты. Они, очевидно, гораздо более дешевы и оперативны, хотя и не всегда убедительны и надежны.
В мысленном эксперименте структура реального эксперимента воспроизводится в воображении. Возможности воображения? У некоторых людей — фантастические.
«К 17 годам я научился видеть внутренним зрением, и с тех пор мне не нужны были модели, чертежи или опыты, я могу столь же реально представлять всё это в мыслях. Когда у меня рождается идея, я сразу же начинаю развивать ее в своем воображении. Я меняю конструкцию, вношу улучшения и мысленно привожу механизм в движение. Для меня абсолютно неважно, управляю я своей турбиной в мыслях или испытываю ее в мастерской. Я даже замечаю, что нарушилась ее балансировка. Не имеет никакого значения тип механизма, результат будет тот же. Таким образом, я могу быстро развивать и совершенствовать концепцию, не прикасаясь ни к чему. Когда учтены все возможные и мыслимые усовершенствования изобретения и не видно никаких слабых мест, я придаю этому конечному продукту моей мыслительной деятельности конкретную форму. Изобретенное мной устройство неизменно работает так, как, по моим представлениям, ему надлежит работать, и опыт проходит точно так, как я планировал. За двадцать лет не было ни одного исключения». — Никола Тесла, гений. Изобретатель электричества и радио, повелитель молний.
Итак, в мысленном эксперименте человек в уме оперирует пространственными образами, мысленно ставит тот или иной объект в различные положения и мысленно подбирает такие «экспериментальные» ситуации, в которых, как и в обычном опыте, должны появиться более важные или почему-либо интересные особенности данного объекта…
Примеры мысленных экспериментов
Эксперимент Галилея
Галилей провёл мысленный эксперимент, опровергающий мнение, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких.
Представим пушечное ядро и мушкетную пулю. Если считать, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких, то ядро должно падать с большей скоростью. Теперь представим, что ядро и пуля были соединены перемычкой и образовали новый, ещё более тяжёлый предмет. Он тяжелее, и следовательно должен падать быстрее, чем пушечное ядро. Но одновременно он должен падать медленнее, чем пушечное ядро, так как лёгкая мушкетная пуля должна тормозить движение тяжёлого ядра. Обнаруживается противоречие, из которого можно сделать вывод, что все тела падают с одинаковым ускорением.
Конгресс по психологии в Москве
На одном из международных конгрессов по психологии состоялась дискуссия о депривации и был предложен мысленный эксперимент с Робинзоном. Ученым был задан вопрос: представьте, что на острове со всеми благоприятными условиями (еда, вода, телевизор, все вещи) оказался 5-летний ребенок. Будет ли происходить развитие ребенка, или он останется на том же уровне? Ответ: нет. См.Развитие личности
10 инструментов дизайн-мышления
1. Визуализация означает использование образов. Это не касается рисования, а скорее образного мышления. Это подталкивает нас к тому, чтобы выйти за рамки использования только слов или языка. Это способ раскрепощения другой части нашего мозга, которая позволит нам мыслить не вербально, а это именно то, что менеджеры обычно не используют.
2. Картографирование путешествия (или картографирование опыта) – это этнографический метод исследования, в центре внимания которого находится отслеживание «путешествия» клиента по мере того, как он или она взаимодействуют с организацией в процессе получения услуги, с особым акцентом на эмоциональные взлеты и падения. Картографирование опыта применяется с целью определения потребностей, которые клиенты часто не в состоянии выразить.
3. Анализ ценностной цепочки занимается изучением того, как организация взаимодействует с партнерами по ценностной цепочке для разработки, продвижения и распространения новых предложений на продажу. Анализ ценностной цепочки предлагает способы создания большей ценности для клиентов в пределах цепочки, а также выявляет важные подсказки о возможностях и намерениях партнеров.
4. Картографирование мыслей применяется для отображения того, как идеи или другие элементы связаны с центральной идеей и друг с другом. Эти карты используются для генерирования, визуализации, структурирования и классификации идей с целью поиска шаблонов и скрытых закономерностей, которые выражают ключевые критерии дизайна.
5. Быстрая разработка концепции помогает нам генерировать гипотезы о потенциальных новых бизнес-возможностях.
6. Тестирование предложений фокусируется на определении предположений, лежащих в основе привлекательности новой бизнес-идеи, а также использовании доступных данных для оценки вероятности того, что эти предположения окажутся верными. Затем эти предположения тестируются с помощью мысленных экспериментов, а затем практических инструментов, в рамках которых новые концепции проходят четыре теста: создание ценности, реализация, масштабы применения и пригодность.
7. Модели прототипирования позволяют нам делать абстрактные новые идеи осязаемыми для потенциальных партнеров и клиентов. К ним относятся раскадровка, пользовательские сценарии, «путешествия» клиента, а также иллюстрации бизнес-концепции – все они стимулируют высокий уровень вовлеченности заинтересованных лиц для получения обратной связи.
8. Сотворчество с клиентом включает в себя методы, позволяющие менеджерам привлечь клиента в процесс генерирования и разработки новых бизнес-идей, представляющих обоюдный интерес. Эти методы входят в ряд максимально повышающих ценность и снижающих риск подходов к росту и инновациям.
9. Трамплины обучения предназначены для тестирования основополагающих, формирующих ценность предположений для потенциального нового роста инициативы на рынке. В отличие от полного цикла вывода нового продукта на рынок, «трамплин» обучения — это простой и недорогой эксперимент в обучении для сбора обусловленных рынком данных.
10. Рассказывание историй (сторителлинг) говорит само за себя: это означает сочинение истории, вместо того чтобы выдвигать ряд утверждений. Этот инструмент сродни визуализации – еще один способ дать прочувствовать новые идеи и сделать их наглядными. Визуальный сторителлинг действительно является наиболее наглядным типом истории. Все хорошие презентации – будь-то аналитические или ориентированные на дизайн, – рассказывают убедительную историю.
Более подробно
Мысленный эксперимент, как исторический метод
Мысленный эксперимент, как исторический метод
Историческая наука, как способ создания образа прошлого может лишь попытаться понять на основе каких идей люди совершали свои действия. Господствующее в данную эпоху и в данном народе мировоззрение обеспечивает некоторую регулярность и предсказуемость действий в их историческом поведении, поэтому методом истории должен быть метод понимания идей, лежащих в основе исторических действий, но этот метод определенно не может быть математически формализован. Из научных методов, в истории может быть использован мысленный эксперимент, основанный на использовании логики при манипулировании с идеальными моделями.
К мысленному эксперименту, как научной процедуре обычно относят такие идеальные манипуляции, которые производятся с моделью объективно существующего объекта. В исторической науке объективно существующих объектов нет, поэтому моделью обычно является факт (им может быть событие, явление или процесс), сконструированный историком на основе источников.
Ценность мысленного эксперимента в том и состоит, что он, будучи про¬явлением творческой активности мышления, позволяет исследо¬вать ситуации, хотя и неосуществимые практически, но возможные в реальном мире.
Объект исследования мысленно помещается в определенную ситуацию, устанавливаются его отношения с другими объектами, и в результате изменения этих отношений на основании логики, научных знаний, опыта и здравого смысла исследователя происходит изменение положения объекта, его качеств и свойств. Одним из преимуществ подобной процедуры считается то, что в ее процессе можно абстрагироваться от некоторых несущественных, с точки зрения исследователя взаимосвязей и отношений объекта, что порой невозможно сделать при реальных манипуляциях с объектом.
Мысленный эксперимент играет особую роль в построении картины исторического прошлого. Историк постоянно помещает различные свидетельства об изучаемом событии в сложившийся у него образ эпохи, тем самым пытаясь с одной стороны подтвердить их, если факт вписывается в сформировавшийся в сознании историка контекст; либо опровергнуть его, если этого не происходит.
Все, от конструирования, принятия и проверки исторического факта или исторической теории происходит в сознании историка и мысленный эксперимент, чаще всего производимый неосознанно, играет в этом процессе значительную роль. Более, того, это практические единственный, доступный историкам вид экспериментирования, хотя сами они в этом не любят не только признаваться, но и задумываться над этим.
Философия и наука: проблемы соотнесения
%PDF-1.6 % 23 0 obj > endobj 2604 0 obj > endobj 20 0 obj >stream PScript5.dll Version 5.2.22016-12-22T02:40:30+03:002016-11-30T05:39:29+04:002016-12-22T02:40:30+03:00application/pdf
Китайская комната | Тренинг InLiberty
26 января | сб
КАК ДУМАТЬ О CЛОЖНОМ?
10:00–10:30
Сбор участников
10:30–12:00
Intro
ДИЛЕММА ВАГОНЕТКИ
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
МЫСЛЕННЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ?
Илья Венявкин
12:15–14:00
Кейс-стади
КОМНАТА МЭРИ
У ВСЕГО ЛИ ЕСТЬ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА?
Эксперимент Фрэнка Джексона
Кирилл Мартынов
ЗЛОЙ ДЕМОН
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧТО-ТО,
В ЧЕМ НЕЛЬЗЯ
УСОМНИТЬСЯ?
Эксперимент Рене Декарта
Анна Винкельман
НЕИСПРАВНЫЙ
ТЕЛЕПОРТ
ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ МНОЮ?
Эксперимент Дерека Парфита
Андрей Бабицкий
14:00–14:45
Перерыв на обед
14:45–16:00
Практика
КАК ПРИДУМАТЬ
МЫСЛЕННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ?
Тарас Пащенко
16:00–17:00
Подготовка к дебатам
17:00–19:00
Дебаты
27 января | вс
КАК ПОСТУПАТЬ?
10:30–11:00
Intro
ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ЦЕННОСТИ?
Илья Венявкин
11:15–14:15
Кейс-стади
ДИЛЕММА ЛОБСТЕРА
НУЖНО ЛИ ГНАТЬСЯ
ЗА УДОВОЛЬСТВИЕМ?
Эксперимент Питера Сингера
Андрей Бабицкий
САМЫЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
ЧТО МЕШАЕТ НАМ
ЖИТЬ НОРМАЛЬНО?
Эксперимент Иммануила Канта
Анна Винкельман
СКРИПКА СТРАДИВАРИ
КТО ЧЕГО ЗАСЛУЖИВАЕТ?
Эксперимент Майкла Сэндела
Кирилл Мартынов
14:15–15:00
Перерыв на обед
15:00–16:00
Практика
СПОРИТЬ И/ИЛИ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
КАК УСТРОЕНЫ ДЕБАТЫ
О ЦЕННОСТЯХ?
Тарас Пащенко
16:00–17:00
Подготовка к дебатам
17:00–19:00
Дебаты
мысленных экспериментов | Howe Writing в рамках учебной программы
Мысленный эксперимент — это воображаемый сценарий, призванный помочь вам продумать проблему или идею. Философия — не единственная дисциплина, которая их использует. Известные мысленные эксперименты в других дисциплинах включают кота Шредингера (квантовая физика), бесконечный отель Гильберта (математика) и дилемма заключенного (теория игр, экономика). Мысленные эксперименты проникли даже в поп-культуру; Например, проблема с тележкой Филлиппы Фут была показана в ситкоме «Хорошее место», а мысленный эксперимент Фрэнка Джексона «Мэри в комнате» обсуждается в фильме « Ex Machina ».
Мысленные эксперименты можно найти в трудах, восходящих к истокам философии в Древней Греции. Например, в «Республике» Платон просит читателей представить себе кольцо, подобное тому, которое представлено в мифе о Гиге, которое делает вас невидимым, и задает вопрос: что бы вы сделали, если бы у вас было такое кольцо? Вы бы нарушили закон или поступили бы плохо, зная, что это может сойти с рук? Дело не в том, чтобы планировать время, когда вы действительно можете получить такое кольцо, и неважно, действительно ли такое кольцо существует.Дело в том, чтобы заставить вас задуматься о природе справедливости.
Мысленные эксперименты иногда воплощались в фантазиях (например, кольцо Голлума в трилогии Хоббит и Властелин колец ) 1 и научной фантастике (например, Minority Report 2 и The Matrix 3 ). Мысленные эксперименты были даже развиты в более реалистичных художественных произведениях и фильмах (например, Преступлений и проступков, и Отступников, 4 ).В каждом случае история дает нам повод задуматься о природе вещей, таких как справедливость, свобода воли или даже сама реальность.
1. Это, пожалуй, самый известный намек на кольцо Гигеса.
2. Этот фильм исследует вопросы, связанные со свободой воли, детерминизмом и справедливостью.
3. Этот фильм поднимает вопросы, касающиеся разницы между внешним видом и реальностью, проблема, восходящая к Платону и рассматриваемая в мысленном эксперименте Декарта «злой гений».↩
4. Оба фильма исследуют вопрос, поставленный Платоном Республика , связанный с кольцом Гигеса: не лучше ли быть плохим человеком, который кажется хорошим, и худшим, быть хорошим человеком, который кажется плохим? Платон отвечает отрицательно. Тем не менее, проблема, как правильно ответить на этот вопрос, сохраняется и остро исследуется в обоих этих фильмах. ↩
Действительно ли мысленные эксперименты открывают новые научные истины?
В «Диалоге о двух главных мировых системах » Галилея (1632 г.) три итальянских джентльмена — один философ и два мирянина — спорят о структуре Вселенной.Философ Сальвиати выступает в поддержку теории Коперника, даже несмотря на то, что для этого требуется движущаяся Земля, что кажется его собеседникам проблематичным, если не абсурдным. В конце концов, мы не чувствуем, как земля движется под нашими ногами; облака и птицы не сметаются назад, когда планета свистит в космосе; мяч, сброшенный с башни, приземляется недалеко от основания этой башни.
Но Сальвиати, заменяющий Галилея, просит своих товарищей, Сагредо и Симпличио, пересмотреть свои интуиции.Предположим, кто-то должен был сбросить какой-либо предмет с мачты высокого корабля. Какая разница, движется ли корабль? Нет, настаивает Сальвиати; он все равно приземляется у основания мачты, и поэтому из такого эксперимента нельзя сделать никаких выводов о движении корабля. Если корабль может двигаться, то почему не вся планета? Симпличио возражает: Сальвиати на самом деле не проводил этот эксперимент на борту корабля, так как он может быть уверен в результате?
«Без экспериментов, я уверен, что эффект произойдет, как я вам говорю», — отвечает он.После некоторых дальнейших уговоров Симпличио покоряется.
Сегодня большинство ученых и философов полагают, что есть только один надежный способ познания мира, а именно, тыкать и толкать его — точка зрения, которую философы называют эмпиризмом. Когда ребенок тыкает и толкает, это называется игрой. Когда это делает ученый, это называется наблюдением и экспериментом. В любом случае, однако, мы учимся, видя и делая.
Но, как показал Галилей, из этого правила есть исключения.Есть — якобы — случаи, когда мы приходим к пониманию чего-то о мире посредством своеобразного эксперимента, который проводится только в уме. Мысленные эксперименты, как их называют, — это упражнение чистого воображения. Мы думаем о каком-то конкретном устройстве вещей в мире, а затем выясняем, какими будут последствия. Поступая так, мы, кажется, узнаем кое-что о законах природы.
Мысленные эксперименты сыграли решающую роль в истории физики.Галилей был первым великим мастером мысленного эксперимента; Альберт Эйнштейн был другим. В одном из своих самых знаменитых мысленных экспериментов Галилей показывает, что тяжелые и маленькие предметы должны падать с одинаковой скоростью. В другом случае — опираясь на аргумент о корабельной мачте — он выводит эквивалентность систем отсчета, движущихся с постоянной скоростью относительно друг друга (то, что мы теперь называем относительностью Галилея), краеугольным камнем классической физики.
Эйнштейн тоже умел совершать такие творческие трюки в своей голове.В молодости он представлял, каково это бегать рядом с лучом света, и это привело его к специальной теории относительности. Позже он представил падающего человека и понял, что в свободном падении человек не чувствует собственного веса; Исходя из этого понимания, он пришел к выводу, что ускорение неотличимо от силы тяжести. Этот второй прорыв стал известен как «принцип эквивалентности» и привел Эйнштейна к его величайшему триумфу — общей теории относительности.
Общим в этих примерах является то, что знание, кажется, возникает изнутри ума, а не из какого-то внешнего источника.Они не требуют ни лаборатории, ни заявки на грант, ни фактического выполнения… чего-либо. Когда мы проводим мысленный эксперимент, мы учимся, казалось бы, путем чистого самоанализа. «Кажется» — это, пожалуй, ключевое слово. Вопрос о том, действительно ли мысленные эксперименты бросают вызов эмпиризму, вызывает жаркие споры.
Джеймс Роберт Браун, философ из Университета Торонто, считает, что мысленные эксперименты действительно представляют собой своего рода эпистемический бесплатный обед. По его словам, они дают нам представление о законах природы, и делают это без необходимости, так сказать, пачкать руки.Еще когда он был студентом, Браун сначала симпатизировал эмпирикам; «Мне показалось, что они выиграли», — вспоминает он. Он восхищался Платоном и Рене Декартом, поборниками чистого разума, но скептически относился к их заявлениям о том, что можно интуитивно постичь работу природы изнутри собственного разума.
Затем Браун услышал мысленный эксперимент Галилея с падающими телами, и все изменилось.
Этот мысленный эксперимент заслуживает более внимательного изучения. Его можно найти в последней книге Галилея « Рассуждения и математические доказательства, относящиеся к двум новым наукам» (1638).(К тому времени, как Галилей написал это, он находился под домашним арестом во Флоренции и ему было запрещено публиковать какие-либо книги, но ему удалось контрабандой переправить рукопись в Голландию, где она была напечатана.) В «Беседах » Галилей просит нас представить сбросить с башни два объекта разного веса — скажем, мушкетное ядро и пушечное ядро. Аргументы, изложенные Аристотелем, а также здравый смысл говорят о том, что более тяжелый предмет первым ударяется о землю.
Но предположим, что мы соединяем два объекта коротким жестким стержнем.Можно утверждать, что более легкое мушкетное ядро действует как тормоз для более тяжелого пушечного ядра, замедляя его падение. С другой стороны, можно также возразить, что составное тело, вес которого равен сумме двух исходных тел, должно падать быстрее, чем любое другое тело по отдельности. Очевидно противоречие. Единственное решение, говорит Галилей, состоит в том, что все тела падают с одинаковой скоростью, независимо от их веса.
«Поразительно, что вы можете продумать свой путь к решению, не проводя эксперимент»
«Я упал со стула, когда услышал это», — сказал Браун.«Возможно, это был самый замечательный интеллектуальный опыт за всю мою жизнь». Браун стал ведущим специалистом в области мысленных экспериментов. Его книга The Laboratory of the Mind (1991) была одним из первых углубленных исследований этого предмета. Совсем недавно он вместе со своим коллегой из Университета Торонто Йифтахом Фехиге и Майклом Стюартом, докторантом Лондонской школы экономики, был соредактором The Routledge Companion to Thought Experiments (2017).Однако даже после десятилетий изучения мысленных экспериментов случай с падающими телами Галилея остается любимым для Брауна: «Я думаю, что всем должно показаться ослепительным, что вы можете продумать свой путь к решению проблемы, фактически не проводя эксперимента».
Если Браун прав — если Галилей успешно продумал свой путь к пониманию чего-то важного о мире природы, то важно знать, как именно он это осуществил. По мнению Брауна, мысленные эксперименты позволяют нам увидеть «универсалии»; то есть они позволяют нам распознавать универсальные истины о мире природы.Во многом так же, как мы приходим к математическим истинам (размышляя о них), мы можем также прийти к определенным истинам о природе.
Другими словами, хотя мир полон физических вещей, занимает пространство и сохраняется во времени, некоторые истины о физическом мире имеют очень нефизический привкус. Они напоминают математические истины, кажущиеся существующими вне пространства и времени. Эти истины, как полагает Браун, могут быть интуитивно понятны a priori без необходимости наблюдения или эксперимента.Эта идея восходит к Платону, и Браун действительно с радостью называет себя платоником.
Вот уже несколько десятилетий Джон Нортон, философ из Питтсбургского университета, защищает лагерь эмпириков от платонизма Брауна. Нортон считает, что мысленные эксперименты — это не просто возможность заглянуть в царство платонических истин, а просто элегантно составленные аргументы, которые вызывают в воображении яркие картины. По его словам, они не производят нового знания, кроме того, что можно было бы вывести из анализа знаний, уже неявно содержащихся в собственных предпосылках аргумента.Мысленные эксперименты, как он писал в статье в 1996 году, «не открывают новых каналов доступа к физическому миру».
Снова рассмотрим случай с Галилео. По мнению Нортона, все, к чему мы пришли «в голове», — это то, что позиция Аристотеля, согласно которой объекты падают со скоростью, пропорциональной их весу, ошибочна. Мы могли бы и дальше принять предложение Галилея о том, что все тела падают с одинаковой скоростью, но только если мы примем его тщательно изложенный аргумент, который, в свою очередь, опирается на большой объем ранее полученных знаний о мире, говорит Нортон.
Для того, чтобы позиция Нортона устояла, должна быть возможность реконструировать все мысленные эксперименты как аргументы — что, по его мнению, действительно возможно, по крайней мере, для мысленных экспериментов в физике. Он предлагает Брауну или любому защитнику-платонику выдвинуть мысленный эксперимент, который нельзя преобразовать таким образом. «Это был открытый вызов, — сказал мне Нортон. «Чтобы доказать, что я неправ, вам достаточно провести один мысленный эксперимент, который я не могу воспроизвести в качестве аргумента. И ни у кого нет.’
Результатом вызова Нортона стала особая версия интеллектуального пинг-понга, которая, похоже, нравится и ему, и Брауну. «Я говорю:« Давай, Нортон, а как насчет , этого ? » И обычно он возвращается через 24 часа, и он реконструирует это как аргумент, — сказал Браун. Эти аргументы, отмечает Браун, технически надежны. Они начинают с посылок и следуют правилам дедуктивного или индуктивного вывода. «Я почти готов поверить, что он может сделать это в любом случае», — сказал Браун.«И это большая уступка. Тем не менее, я не думаю, что его рассказ может быть правильным ».
Брауна беспокоит то, что, даже если мысленный эксперимент может быть реконструирован как аргумент, мы на самом деле не прорабатываем его в своей голове; познавательный процесс гораздо более интуитивен и менее аналитичен, чем рассуждения Нортона о точках зрения. Скорее то, что разворачивается, больше похоже на своего рода момент «ага» — видение очевидной истины того, что было скрыто всего несколько мгновений назад.Norton не согласен с этим. «Это намного сложнее, чем говорит Джим [Браун]. Джим говорит, что сразу видит это. Что ж, мы склонны видеть все это, потому что мы уже были подготовлены по-разному », — сказал Нортон. В случае с Galileo мы были вдохновлены тем, что узнали о падающих телах в школе и, что, возможно, более важно, в течение многих лет, когда наблюдали, как падают объекты, — говорит Нортон.
«Вы должны верить в эпистемологическую магию, чтобы поверить, что сидение в кресле дает вам познание мира»
В одном два мыслителя сходятся во мнении, что мысленные эксперименты, как и настоящие эксперименты, могут быть ошибочными; только некоторые из них (например, случай с Галилео) действительно позволяют заглянуть во внутреннее устройство природы.Но и здесь у Нортона есть претензии: «Если мысленные эксперименты — это« платоническое восприятие », то скажите мне, как мне узнать, какой из них хороший, а какой плохой? И, конечно, [Браун] не может мне сказать, потому что нет никакого способа; вы просто как бы чувствуете это, — сказал Нортон.
По мнению Нортона, поскольку Браун не может объяснить, почему одни мысленные эксперименты успешны, а другие — нет, вся его программа дает сбой. Браун возражает, что в этом отношении мысленные эксперименты ничем не отличаются от обычных физических экспериментов: «Как почти все в жизни, они подвержены ошибкам.«Для Нортона более серьезной проблемой является механизм, с помощью которого мысленные эксперименты производят знания. С его точки зрения, это знание может быть получено только в результате умелого манипулирования знаниями, которые у вас уже есть; альтернатива, по его мнению, абсурдна.
«Мысленные эксперименты — это аргументы, и если вы думаете, что происходит что-то еще, то вы должны поверить в то, что здесь действует какая-то эпистемическая магия», — сказал Нортон. «Вы должны верить, что простое сидение в кресле и какое-то размышление дает вам познание мира … Теперь, если вы так думаете, то, что происходит, остается загадкой.’
Нортон сравнивает позиции, которые он и Браун заняли, с планировкой торгового центра. «Вы знаете, когда у вас торговый центр, вы ставите Nordstrom [универмаг] на одном конце, а что-то еще на другом конце, и все танцуют между ними», — сказал он. «Итак, Джим [Браун] и я определили территорию, и люди пытались выяснить, где они живут, между ними». Единственная проблема, по словам Нортона, заключается в том, что в дебатах эмпиризма и платонизма промежуточные позиции не имеет много смысла.Либо вы верите, что о природе познают эмпирически, либо вы верите, что можете интуитивно понять, как устроен мир, просто подумав о нем. «Я не думаю, что есть какая-то промежуточная, стабильная почва», — заключил Нортон.
Браун, как оказалось, придерживается того же мнения, говоря, что эмпиризм — это «своего рода комплексная сделка». С точки зрения эмпириков: «Все, что вы знаете, основано на опыте. Другого способа узнать что-либо нет. Итак, если вы думаете, что есть хотя бы одна вещь, о которой вы знаете, что не является эмпирическим, вы перестаете быть эмпириком … Это немного похоже на высказывание атеиста: «99.999 процентов всего происходящего происходит в соответствии с естественным законом. Чуда не бывает ». Если ты собираешься стать атеистом, ты не можешь поверить ни в одно чудо ».
(Когда Браун и Нортон встречаются в реальной жизни, как это бывает с некоторой регулярностью на конференциях, они сказочно ладят. «Джим и я — лучшие друзья, — сказал Нортон. — Когда мы собираемся вместе, это бунт»).
Возможно, обе точки зрения неверны. Возможно, что мысленные эксперименты не являются ни проблеском в райское царство Платона, ни прямыми, обычными аргументами.Третья возможность, выдвинутая когнитивистом Нэнси Нерсесян из Технологического института Джорджии, заключается в том, что, когда мы думаем своим путем посредством мысленного эксперимента, мы участвуем в том, что она называет «ментальным моделированием».
Психическое моделирование — это именно то, на что это похоже: так же, как мы можем создавать физические модели с помощью наших рук, мы также можем создавать ментальные модели с помощью нашего разума. Нерсесян приводит пример покойного американского эрудита Герберта Саймона: как можно подсчитать количество окон в своем доме, не глядя? Саймон считал, что есть только один способ дать ответ на этот вопрос: вы создаете в уме модель своего дома и совершаете виртуальную прогулку по ней, считая окна.Но виртуальная модель — это больше, чем просто представление реальной вещи. По словам Нерсесяна, манипулирование любой моделью включает в себя аналогичные процессы в мозге, что подтверждается недавними исследованиями изображений мозга.
«Ментальная модель — это, по сути, представление структуры, функции или поведения некоторой системы, которая вас интересует, — некоторой системы реального мира, которая сохраняет свои сенсорные и моторные свойства, которые вы получаете от восприятия», — сказал Нерсесян. Когда мы манипулируем ментальной моделью, утверждает она, мы используем «некоторые из тех же методов обработки, которые вы используете для манипулирования вещами в реальном мире».
На первый взгляд, эта точка зрения кажется более близкой к точке зрения Нортона, чем к точке зрения Брауна. Нерсесян не поклонник платонизма. По ее словам, прежде чем мы сможем сказать что-либо о физическом мире с уверенностью, мы должны провести реальные эксперименты, а не только мысленные эксперименты: «Нам нужен последний шаг». что мы «видим» вещи в нашем сознании, чем идея Нортона о построении аргумента. Когда вы проводите мысленный эксперимент, вы «создаете представление о ситуации, которое имеет определенные структурные и поведенческие свойства», говоря словами Нерсесяна.Затем мы манипулируем этими свойствами и делаем вывод, — говорит она. «Вы делаете вывод непосредственно посредством этой манипуляции, а не говорите:« Если p, то q; p, следовательно, q. ”’
Браун соглашается. Даже если некоторые мысленные эксперименты можно преобразовать в аргументы, «реальное научное мышление происходит намного быстрее», и мы приходим к ответу «задолго до того, как кто-либо выполнит эту реконструкцию».
Разумы не существуют в вакууме: они являются результатом процессов, связанных с физическим миром
Но, как и Нортон, Нерсесян полагает, что то, что кажется априори интуиции, на самом деле полагается на лежащие в основе эмпирические знания.Она рассматривает мысленные эксперименты как «экстраполяцию нашего воплощенного опыта в мире». Рассмотрим в этом контексте падающие тела Галилея. «У вас есть опыт работы с тяжелыми предметами, у вас есть опыт работы с легкими предметами, и вы знаете, как они себя чувствуют», — сказала она. Мысленный эксперимент Галилея «основан на вашем опыте ощущения этих вещей в мире».
Философ и ученый-когнитивист Дэниел Деннет из Университета Тафтса в Массачусетсе придерживается аналогичной точки зрения.Он много писал о мысленных экспериментах. Его критика нескольких хорошо известных мыслительных экспериментов в философии, включая аргумент Джона Сирла о «китайской комнате» (1980) и аргумент Фрэнка Джексона (1982), почти так же известна, как и оригинальные работы, которые они осуждают. Деннет описывает мысленные эксперименты как «насосы интуиции»: истории, которые структурируют ваше представление о проблеме. Они могут побудить читателя взглянуть на проблему по-новому, что делает их невероятно мощными, но они также могут ввести в заблуждение.
Как Нортон и Нерсесян, Деннет не терпит платонизма. «Идея интуитивного познания законов природы à la Платон кажется мне увлекательной идеей, которая изжила себя», — сказал он. Он считает, что любые знания о мире, которые можно получить с помощью мысленных экспериментов, не исходят исключительно из разума. Если кажется, что это так, то только потому, что мы не учли, что такое умы и как они работают. Умы, утверждает Деннет, не существуют в вакууме.Скорее, они являются результатом длительного процесса как нашего развития как мыслящего, переживающего индивида, так и нашей эволюции как мыслящего, переживающего вида — процессов, которые очень сильно связаны с физическим миром.
Когда мы «интуитивно воспринимаем» урок мысленного эксперимента Галилея с падающими телами, тогда мы извлекаем пользу из этого богатого эволюционного наследия. «Разум, который может представить себе этот мысленный эксперимент и следовать ему, обогатился, прежде всего, сотнями миллионов лет эволюции, которая создала структуры и диспозиции в этом разуме, обусловленные факторами этого мира», — сказал Деннет. .«Разум также получил образование и воспитание, выучил естественный язык, знает, как понять условия мысленного эксперимента — все это невероятно богатое эмпирическое вложение в мир».
Брауна нисколько не огорчает отсутствие энтузиазма в отношении платонизма. Вместо этого он рад, что то, что когда-то было относительно недооцененной отраслью философии, породило такие обширные, междисциплинарные дискуссии и растущее количество научных работ. Ему особенно приятно видеть, что вопрос о том, как работают мысленные эксперименты, подвергается тщательной проверке, которой он заслуживает.
«Я считаю, что мысленные эксперименты работают по-разному. В этом отношении они похожи на настоящие эксперименты, которые работают по-разному », — сказал Браун. «Я думаю, что в некоторых случаях Нортон прав; на самом деле это просто аргументы. Я также думаю, что такие люди, как Нэнси Нерсесян, в некоторых случаях правы — ее ментальные модели, описывающие происходящее, вероятно, верны ».
Тем не менее, Браун придерживается своих Платонических орудий.«Существует очень небольшое количество мысленных экспериментов — и падающие тела Галилея — одно из них — где, я думаю, у нас на самом деле есть a priori познаний о природе. И в этом я бы резко отличался от Norton ».
«Если мы можем познать законы природы с помощью отражения в кресле, почему бы не вложить больше ресурсов в кресла, а не в ЦЕРН?»
Если он прав в том, что некоторые истины о мире действительно могут быть выведены силой чистой мысли, последствия будут огромными. Во-первых, это естественным образом приводит к вопросу, почему мы получаем лишь редкие, случайные проблески платонической истины.Чем эти случаи отличаются от всех остальных? Но более того, позиция Брауна бросает вызов тому, как мы думали о знаниях последние 400 лет.
Все, от пекарей до юристов, исходят из предположения, что то, что они видят и трогают, в конечном итоге имеет значение: мы выпекаем и выносим решения в реальном мире, а не на платоновских небесах. Как выразился Нортон: «Мы не осуждаем кого-либо, потому что прокурор« просто знает », что обвиняемый виновен». Наука — это прежде всего дисциплина, которая наиболее серьезно относится к наблюдению.«Если Джим [Браун] прав в том, что мы можем узнать законы природы по отражению в кресле, не следует ли нам вкладывать больше ресурсов в кресла, а не в ЦЕРН?» — спросил Нортон, имея в виду европейское физическое сотрудничество, которое запускает Большой адронный коллайдер. . «Мы могли бы купить много кресел по цене ЦЕРН».
Браун не более заинтересован в изменении правил науки, чем Нортон. (Он также признает, что для ученых, вероятно, не имеет большого значения, что философы говорят о своем ремесле. Как якобы заметил Ричард Фейнман: «Философия науки примерно так же полезна для ученых, как орнитология для птиц.Но, по мнению Брауна, лучшее доказательство несостоятельности эмпиризма — или, возможно, «неполноты» — в любом случае исходит не от науки; это происходит из математики и этики.
Эмпиризм не может объяснить, почему квадратный корень из двух является иррациональным числом или почему причинять кому-то боль без причины — это морально неправильно. Хотя Браун восхищается попыткой Нортона провести мысленные эксперименты в ковчеге эмпириков, он подозревает, что сосуд уже безнадежно негерметичен. «Великое достоинство теории Нортона в том, что она спасает эмпиризм», — сказал Браун.«Но меня не впечатляет спасительный эмпиризм, потому что я никогда не был эмпириком с самого начала. Я всегда думал, что эмпиризм — это неудача из-за математики и этики. Я просто не в восторге от этого. Я не хочу его сохранять ».
Прослеживание развития мысленных экспериментов в философии естественных наук на JSTOR
АбстрактныйДается обзор того, как концепция мысленного эксперимента развивалась и изменялась в естественных науках в течение ХХ века.Во-первых, мы обсуждаем существующие определения термина «мысленный эксперимент» и происхождение метода мысленного эксперимента, определяя его в эпоху греческих досократиков. Во-вторых, только в конце XIX века появилось первое систематическое исследование мысленных экспериментов, выполненное работами Эрнста Маха. После работ Маха отрицательное отношение к мысленным экспериментам появилось в начале 20 века, и это продолжалось до работ Томаса Куна и Карла Поппера над мысленными экспериментами.Только с середины 1980-х годов мысленные эксперименты стали считаться актуальными для научных исследований. Наконец, мы показываем существующие эмпирические и «функциональные» теории о природе и цели мысленных экспериментов.
Информация о журналеЖурнал общей философии науки — это форум для обсуждения философии науки. Его предмет охватывает философские, особенно методологические, онтологические, эпистемологические, антропологические и этические основы отдельных наук.Освещение приводит естественные, культурные и технические науки в философский контекст, включая обсуждение исторических предпосылок и условий текущих проблем философии науки. Журнал устраняет пробелы между различными науками, особенно естественными, культурными и социальными науками. Его обсуждение раскрывает как общие, так и расходящиеся методологические и философские основы отдельных наук и принимает во внимание все актуальные в настоящее время положения философии науки.Журнал рассматривает историческое измерение наук как контекст для понимания актуальных проблем философии науки.
Информация об издателеSpringer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно, охватывающих широкий круг предметов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.
Права и использование Этот предмет является частью коллекции JSTOR.
Условия использования см. В наших Положениях и условиях
Журнал общей философии науки / Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
© 2006 Springer
Запросить разрешения
Что нам следует думать о мысленных экспериментах?
Аристотель: 1984, Риторика (W.Рис Робертс, пер.), Современная библиотека, Нью-Йорк.
Google ученый
Барри, Брайан: 1979, «Об этике редактирования», Этика вн90 (1), 1-6.
Беквит, Ф. Дж .: 1992, «Личные телесные права, аборт и отключение скрипача», International Philosophical Quarterly 32 (1), 105-118.
Google ученый
Брукс, Д.Х. М .: 1994, «Метод мысленного эксперимента», Метафилософия 25 (1), 71-83.
Google ученый
Браун, Дж. Р .: 1992, «Почему эмпиризм не работает», PSA 1992 2 , 271-279.
Google ученый
Браун, Дж. Р .: 1991, Лаборатория разума: мысленные эксперименты в естественных науках, , Рутледж, Лондон.
Google ученый
Брунер Дж .: 1991, «Повествовательное построение реальности», Critical Inquiry 18 (1), 1-21.
Google ученый
Чандра, С .: 1977, Идентификационные и мысленные эксперименты , Институт перспективных исследований, Симла.
Google ученый
Дэвис, М.: 1983, «Плоды, известные скрипачи и право на дальнейшую помощь», Philosophical Quarterly 33 (132), 259-278.
Google ученый
Деннетт, Д.К .: 1995, «В защиту ИИ», Питер Баумгартнер (ред.), Speaking Minds: Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists , Princeton University Press, Princeton, pp. 57-69.
Google ученый
Деннетт, Д.С .: 1991, Объяснение сознания , Литл Браун, Бостон.
Google ученый
Деннетт, Д.К .: 1987, Преднамеренная позиция , MIT Press, Кембридж, Массачусетс.
Google ученый
Деннетт, Д.К .: 1980, «Молоко человеческой интенциональности», Поведенческие науки и науки о мозге 3 , 428-430.
Google ученый
Финнис, Дж.: 1973, «Права и недостатки абортов: ответ Томсону», Philosophy and Public Affairs 2 (2), 135-145.
Google ученый
Гудин Р. Э .: 1982, Политическая теория и государственная политика , Издательство Чикагского университета, Чикаго.
Google ученый
Гудинг, Д.К .: 1992, «Что такое экспериментальное в мысленных экспериментах?», PSA 1992 2 , 280-290.
Google ученый
Хакерство, И .: 1992, «Есть ли у мысленных экспериментов собственная жизнь? PSA 1992 2 , 302-308.
Google ученый
Хейр, Р. М .: 1981, Моральное мышление, , Кларендон Пресс, Оксфорд.
Google ученый
Хофштадтер, Д. Р. и Д. К.Dennett (ред.): 1981, The Mind ‘s I: Fantasies and Reflections of Self and Soul, Bantam Books, Toronto.
Google ученый
Ирвин, AD: 1991, «Мысленные эксперименты в научном рассуждении», в T. Horowitz и GJ Massey (ред.), Thought Experiments in Science and Philosophy , Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Savage, MD С. 149-165.
Google ученый
Джексон, М.W .: 1992, «Метод этики Gedankenexperiment », The Journal of Value Inquiry 26 , 525-535.
Google ученый
Локк, Дж .: 1975, «Об идентичности и разнообразии», в J. Perry (ed.), Personal Identity , University of California Press, Berkeley, pp. 33-52.
Google ученый
Маккиннон, К. А .: 1989, К феминистской теории государства , Издательство Гарвардского университета, Кембридж.
Google ученый
Нерсесян, Н. Дж .: 1992, «В лаборатории теоретика: мысленные эксперименты как мысленное моделирование», PSA 2 , 291-301.
Google ученый
Нортон, Дж .: 1991, «Мысленные эксперименты в работе Эйнштейна», у Т. Горовица и Г.Дж. Мэсси (ред.), Мысленные эксперименты в науке и философии , Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Savage, MD, стр. 129–148.
Google ученый
Parfit, D .: 1984, Reasons and Persons , Clarendon Press, Oxford.
Google ученый
Перельман, К. и Л. Ольбрехтс-Титека: 1969, Новая риторика , University of Notre Dame Press, Нотр-Дам.
Google ученый
Сирл, Дж.Р .: 1994, Новое открытие разума , MIT Press, Кембридж.
Google ученый
Сирл, Дж. Р .: 1983, Интенциональность: эссе в философии разума , Cambridge University Press, Кембридж.
Google ученый
Сирл, Дж. Р .: 1980, «Умы, мозг и программы», Поведенческие науки и науки о мозге 3 , 451-455.
Google ученый
Шапин, С .: 1984, «Насос и обстоятельства: литературная технология Роберта Бойля», Социальные исследования науки 14 , 481-520.
Google ученый
Соренсен Р. А .: 1992, Мысленные эксперименты , Oxford University Press, Oxford.
Google ученый
Стейнем, Г.: 1983, Возмутительные поступки и повседневные восстания , Холт, Рейнхарт и Уинстон, Нью-Йорк.
Google ученый
Томсон, Дж. Дж .: 1971, «Защита абортов», Философия и связи с общественностью 1 (1), 47-66.
Google ученый
Unger, P .: 1990, Identity, Consciousness, and Value , Oxford University Press, New York.
Google ученый
Уоррен М.А .: 1973, «О моральном и правовом статусе абортов», Monist 57 (1), 43-61.
Google ученый
Веннберг, Р .: 1985, Жизнь в равновесии: изучение споров об абортах , Эрдманс, Гранд-Рапидс, Мичиган.
Google ученый
Уилкс, К.V .: 1988, Настоящие люди: личная идентичность без мысленных экспериментов, , Clarendon Press, Oxford.
Google ученый
Рен, М .: 1992, «Аборт и беременность из-за изнасилования», Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel 21 (3 и 4), 201-220.
Google ученый
Раутледж, соучастник мысленных экспериментов
Аристотель, насколько нам известно, не имел концепции мысленных экспериментов.Он не обсуждает их в своих работах, и в его трудах нет признаков того, что он определил особый способ указать на что-то, философски или иначе, что могло бы быть правдоподобно описано в терминах того, что мы называем мысленными экспериментами. У Аристотеля даже нет слова для «мысленного эксперимента». И нетрудно понять, почему это так. Для начала, чтобы наша концепция «мысленного эксперимента» имела конкретный смысл (каким бы расплывчатым он ни был), он требует контекста, в котором концепция «экспериментирования» имеет некоторую популярность среди соответствующего сообщества мыслителей.Но во времена Аристотеля не существовало научного сообщества, которому концепция «мысленного эксперимента» могла бы как бы говорить: это понятие опирается на специфически постаристотелевскую концепцию эксперимента, согласно которой экспериментаторы придумывают повторяемые физические события посредством средства, с помощью которых они демонстрируют некоторую корреляцию между физическими состояниями или событиями, которые обычно недоступны для непосредственного опыта. Важным аспектом этого является то, что экспериментатор производит свою демонстрацию, осуществляя контроль над соответствующими параметрами (обычно с помощью технических инструментов), чтобы изолировать возникновение явления, о котором он хочет продемонстрировать свою точку зрения.Основная идея состоит в том, что она, умышленно манипулируя параметрами, делает доступным повторяемому опыту закономерность в природе, которая ранее не была очевидна для ее научного сообщества. Согласно этой концепции, экспериментирование — это искусственное средство сделать доступным для повторяемого опыта ранее ненаблюдаемые факты о природе или, что еще короче, способ предоставить такие данные в ненаблюдаемой естественной местности. Наше представление о мысленном эксперименте зависит от некоторых таких идей эмпирического эксперимента.Разница, конечно, в том, что мысленные эксперименты не ограничиваются физическими фактами, и именно поэтому они не требуют искусственного создания физических событий; что заставляет их экспериментировать с мыслью , так это то, что вместо этого используются воспроизводимые воображаемые сценарии. 1 Но, несмотря на это различие, наше понятие мысленных экспериментов, кажется, сохраняет то, что было основным для ранней современной идеи эмпирического экспериментирования: они представляют собой воображаемые сценарии, умышленно придуманные путем манипуляций с соответствующими параметрами и с целью изолирования, и, следовательно, раскрытие на опыте некоторых ранее неочевидных фактов; только мысленные эксперименты, вместо того, чтобы предоставлять нам переживания в безоговорочном смысле, предоставляют нам то, что Эрнст Мах называет Gedankenerfahrung , опытом мысли (Mach 1905, 186).
У Аристотеля, конечно, нет никаких следов этого. Но мог ли быть ? Мне кажется, что отсутствие концепции мысленного экспериментирования в трудах Аристотеля не является случайностью. Аристотель, в отличие от экспериментаторов раннего Нового времени, не придает большого методологического веса эмпирическим экспериментам как средству открытия фактов. Общеизвестно, что его естествознание в гораздо большей степени полагается на наблюдение того, что есть, и очевидное для философски проницательного, но не имеющего инструментальной помощи наблюдателя, а не на искусственное извлечение скрытых фактов.В самом деле, его взгляды на статус научных данных в эмпирических науках, кажется, расходятся с нашим более инженерным отношением к природе. 2 Согласно концепции Аристотеля, эмпирическая наука делит труд между сбором соответствующих фактов, с одной стороны, и научным объяснением этих фактов, с другой. Первое он называет «тем ( to hoti )» или «феноменом ( ta phainomen )», а иногда просто «опытом ( empeiria )» науки, в то время как он ссылается на к последнему как «на основании чего» или «из-за чего ( to dihoti )» эти факты.Зоологическая наука, например, представляет собой двойное мероприятие, состоящее из сбора соответствующих фактов о животных и изложения причин этих фактов. На этой картинке объяснительная задача по изложению причин требует, чтобы сбор фактов был более или менее завершен. 3 Аристотелевские науки в этом смысле целостны: их объяснения призваны исчерпывающе охватить релевантный объяснительный порядок, который структурирует их соответствующие области в целом.Для нас же, напротив, мысль о том, что эмпирическое наблюдение фактов в данной области завершено, не пришла бы в голову слишком легко. Мы склонны думать о естественном исследовании как о неограниченной задаче. И похоже, что причина того, почему мы так думаем, связана как раз с невероятным успехом постаристотелевского метода извлечения данных из природы с помощью технических уловок. Поскольку эта история успеха убедительно свидетельствует о том, что наша способность собирать данные и, таким образом, расширять область нашего опыта за пределы очевидного, в большей или меньшей степени зависит от наших технических способностей, и что нет очевидного предела этим способностям.Таким образом, с исторической и ориентированной на прогресс точки зрения, такой как наша, не без иронии, когда Аристотель называет совокупность «наблюдаемых данных данной научной области« опытом ». 4 Но как бы то ни было, философ, который думает о естествознании так же, как Аристотель, вряд ли будет рассматривать открытие новых данных как основное занятие ученого. Скорее, он будет склонен думать об этом как об очень важном и необходимом, но управляемом предварительном условии для надлежащего дела научного исследования, которое является объяснением фактов.И поскольку у такого философа мало причин придавать большой методологический вес экспериментированию как средству открытия фактов, у него еще меньше причин делать это для экспериментов.
Это, конечно, не означает, что в аристотелевской концепции науки нет места для эмпирических экспериментов. Нет особой причины, по которой он должен был рассматривать экспериментирование как проблематичное или незаконное: экспериментирование просто не составляет жизненно важной части его понимания того, что такое эмпирическая наука.Это, как мне кажется, определенно — и, возможно, также тривиально — верно в отношении Аристотеля. 5 В этом плане наш инженерный подход к науке совсем другой. 6 Но есть еще один элемент в самой нашей концепции мысленного эксперимента, который, вероятно, показался бы Аристотелю чуждым. Ибо разговоры об экспериментах «в мыслях» каким-то образом торгуются на идее, что результаты простых мыслей и результаты «настоящих» экспериментов, проведенных учеными-естествоиспытателями, могут иметь аналогичную эпистемологическую ценность.Что делает эту параллель потенциально чуждой Аристотелю, так это то, что она часто сопровождается дополнительной идеей о том, что наличие такой же или подобной эпистемической ценности, как эмпирическая наука, каким-то образом узаконивает или, возможно, даже реабилитирует простые мысли как метод научного открытия. Это, однако, было бы странным мышлением для философа, который предшествует современному разделению между наукой и философией и который, помимо твердой веры в достоинство и цель человеческой способности разума, игнорирует дискредитацию, в которую (в основном аристотелевские) «философские школы» упали в раннее Новое время. 7 Следовательно, есть основания сомневаться в том, что Аристотель рассматривал апелляцию к эмпирическому экспериментированию как коммерческий аргумент.
* * *
Несмотря на отсутствие позитивной концепции мысленного эксперимента в своем мышлении, Аристотель, несомненно, широко использует то, что мы называем мысленными экспериментами. Его работы, особенно по натурфилософии, буквально изобилуют ими. 8 И нетрудно понять, почему это так.В конце концов, Аристотель — философ. Под этим я подразумеваю то, что даже при нашем очень узком понимании философии он озабочен вопросами, которые мы бы классифицировали как философские вопросы, например, о природе ценности, значении, модальности, жизни, боге и т. Д. и так далее. Если верить собственным рассуждениям Аристотеля, эти философские темы чрезвычайно трудны именно в силу того, что они касаются ненаблюдаемых вопросов. 9 И поскольку мысленное экспериментирование, согласно только что приведенной минимальной характеристике, является средством получения данных в иначе ненаблюдаемой местности, кажется, что оно имеет естественное сходство с рассмотрением этих философских вопросов. Qua будучи философом, занимающимся ненаблюдаемыми и в остальном эпистемологически сложными вопросами, это кажется верным и в отношении Аристотеля. Он тоже использует воображаемые гипотетические сценарии, когда у него есть на то основания. Таким образом, похоже, применим тот же функциональный подход: Аристотель использует мысленные эксперименты, чтобы компенсировать недостаток доступных данных в эпистемически сложной местности. Однако я должен добавить здесь, что его концепция философии простирается дальше, чем наша. Для Аристотеля, как хорошо известно, все знания, которые мы преследуем ради самих себя, считаются философскими знаниями, включая естественные науки.Я должен также добавить, что использование Аристотелем мысленных экспериментов в «эпистемически сложной местности» также следует понимать в широком смысле. Он использует мысленные эксперименты не только в тех случаях, когда было бы невозможно или чрезвычайно трудно проводить физические эксперименты, но также, как мы увидим, в случаях, когда было бы относительно легко провести соответствующие физические эксперименты. Это, в частности, относится к ряду мысленных экспериментов в его философской психологии. Но это не означает, что эти эксперименты проводятся в легко доступной эпистемической среде.Скорее, в этих случаях эпистемическая трудность находится на стороне получателя: они обычно касаются утверждений, которые так или иначе противоречат широко распространенным или иным образом глубоко укоренившимся интуициям. Одно из таких утверждений — широко распространенное мнение, что плоть — это орган осязания (см. 4.1 ниже). Аристотель нападает на эту точку зрения с помощью мысленного эксперимента, который легко может быть проведен как реальный эксперимент. Но в таком случае мы все же можем рассматривать мысленный эксперимент как средство для получения данных в эпистемологически сложной местности, потому что данные, которые он нам предоставляет, противоречат здравому смыслу, т. Е.е. они противоречат общепринятым взглядам, и их нелегко встретить в обычном мышлении. Наконец, уточнение. Для целей этой главы я хотел бы отделить мысленные эксперименты от воображаемых сценариев, которые просто иллюстрируют или иллюстрируют какую-то точку зрения, например следующую иллюстрацию тезиса о том, что конституция живого тела лучше всего сохраняется в родственной ему окружающей среде: Например, если природа создала предмет из воска или льда, она не сохранила бы его, поместив его в жаркое место, поскольку противоположное качество быстро разрушило бы его, видя, что тепло растворяет то, что застывает холод.Опять же, вещь, состоящую из соли или селитры, нельзя брать и помещать в воду, потому что жидкость растворяет то, что консистенция обусловлена сухостью.
Я бы не классифицировал это как мысленный эксперимент, потому что в этом случае Аристотель не делает что-либо с воображаемым сценарием. Он не создает доказательств, на основе которых он собирается сделать точку зрения, а просто иллюстрирует общую мысль, которую он ранее высказал в тексте. 10 Сценарии, которые я буду обсуждать в качестве мысленных экспериментов ниже, напротив, каким-то образом генерируют данные , если эти данные тем или иным образом следуют за из воображаемых параметров, чтобы мы могли ощущать их как происходящие. Что касается минималистической функциональной точки зрения, которую я предлагаю от имени Аристотеля, то мысленные эксперименты — это средство компенсировать недостаток данных в эпистемологически сложной местности, каким-то образом генерируя данные из воображаемых сценариев.Это, во всяком случае, несколько заурядная перспектива, в рамках которой я представлю небольшое количество примеров мысленных экспериментов. Мой руководящий принцип при выборе примеров — проиллюстрировать некоторые из разновидности в том, как он их использует. Но я должен предупредить читателя, что я не претендую на репрезентативную подборку примеров, не говоря уже о исчерпывающей типологии. 11 Я заканчиваю эту главу кратким обсуждением того, что сам Аристотель мог подумать о своем собственном использовании мысленных экспериментов.
Примечание к примерам
Аристотель известен большинству из нас как автор плотно написанных философских трактатов. Это его так называемые эзотерические сочинения, которые предназначались для чтения только небольшой элите технически квалифицированных философских инсайдеров. Менее известен опубликованными философскими работами. Эти произведения, так называемые экзотерические сочинения, были предназначены для более широкой аудитории философски заинтересованных неспециалистов. Сегодня, к сожалению, мы располагаем этими сочинениями лишь в сравнительно небольшом количестве фрагментов.Многие из этих произведений были философскими диалогами. Насколько нам известно, они очень напоминали диалоги учителя Аристотеля Платона не только по литературному стилю, но и, очевидно, — и поразительно — по их философской доктрине. Есть, например, аналогия с пещерой также у Аристотеля (см. Ниже) и даже аргументы в пользу бессмертия души — доктрины, которой Аристотель, по-видимому, противоречит в своих эзотерических трудах. Естественно, что в буквальном контексте платонического диалога стиль рассуждений будет более красочным, чем в большинстве кратких эзотерических сочинений.Чтобы проиллюстрировать этот аспект использования мысленных экспериментов Аристотелем, я кратко представлю один пример из его экзотерических сочинений. Все остальные примеры взяты из его эзотерических работ.
1 Диалоги
1,1 Пещера
Мы знаем об этом мысленном эксперименте из отчета Цицерона. Он говорит: Так блестяще замечает Аристотель: Предположим, что есть люди, которые всегда жили под землей, в хороших и хорошо освещенных жилищах, украшенных статуями и картинами и снабженных всем, чем изобилуют те, кого считают счастливыми.Предположим, однако, что они никогда не поднимались над землей, но узнали из слухов и слухов, что есть божественный дух и сила. Предположим, что затем, в какой-то момент, пасть земли раскрылась, и они смогли выбраться и пробиться из этих скрытых жилищ в эти области, в которых мы живем. Когда они внезапно увидели землю, море и небо, когда они узнали величие облаков и силу ветров, когда они увидели солнце и осознали не только его величие и красоту, но и его силу, с помощью которой оно наполняет небо светом и делает день; когда снова ночь затмила земли, и они увидели все небо, выделенное и украшенное звездами, и переменный свет луны, когда она растет и убывает, и восходы и заходы всех этих тел, и их курс устойчивый и неизменный на всю вечность; когда они увидели эти вещи, они наверняка бы рассудили и то, что есть боги, и что эти великие дела — творения богов. Итак, Аристотель.
Аристотель предлагает нам представить себе людей, которые, помимо жизни в подземных жилищах, не зная о существовании внешнего мира, живут в обстоятельствах, подобных нашим; у них есть все необходимое, а также некоторые смутные слухи о существовании божественной силы. Затем он предлагает нам представить, что «пасть земли раскрылась», чтобы пещерные жители увидели звезды и их регулярные движения.На этом основании он утверждает, что обитатели пещер, пораженные зрелищем, «наверняка» поверили бы, что существуют боги, которые, как только боги, могли создать эту чудесную вселенную. Мы не знаем, в каком контексте Аристотель первоначально использовал этот мысленный эксперимент, но он определенно примечателен своей поэтической силой. Аристотель пытается как бы отчуждать нас от нашей собственной макроскопической среды, чтобы позволить нам взглянуть на нее с новой и, предположительно, также более адекватной с философской точки зрения точки зрения: он использует сценарий пещеры, чтобы отделить нас от нашего привычка считать само собой разумеющимся существование внешнего мира и стремится в этой связи установить причинную связь между подавляющей красотой небосвода и существованием божественных творцов.Здесь, как я понимаю, мысленный эксперимент предоставляет данные, которые иначе были бы недоступны, не путем раскрытия ранее скрытых фактов, а путем предоставления нового взгляда на данные, которые слишком очевидны для всех.
2 Метафизика
2,1 «Аргумент о раздевании»
Это, пожалуй, самый известный мысленный эксперимент Аристотеля и, безусловно, самый известный в его Метафизике . Это часть его исследования по вопросу: «Что такое субстанция?» В отличие от предыдущего примера, Аристотель здесь использует эксперимент для критической цели, а именно для опровержения определенного тезиса о том, что такое субстанция.Согласно этому тезису, субстанции становятся тем, что они есть, потому что они лежат в основе предикации. Аристотель проверяет этот тезис. Он просит нас представить неоспоримый экземпляр субстанции, а именно трехмерное естественное тело, а затем лишить его предикатов. Идея достаточно проста: если природа субстанций действительно состоит в том, что они являются основными субъектами предикации, то удаление всех предикатов из основного субъекта предикации (естественного тела) должно оставить нас с его чистой субстанцией.Однако это не то, что происходит: Итак, мы очертили природу субстанции, показывая, что это то, что не относится к субъекту, но от чего основывается все остальное. Но мы не должны просто так сформулировать вопрос; для этого недостаточно. Само утверждение неясно, и далее, с этой точки зрения, материя становится субстанцией. Ибо если это [т.е. материя] не субстанция, мы не можем сказать, что еще есть. Когда все остальное убрано, очевидно, ничего, кроме материи, не остается: ибо [предикаты], кроме [кроме субстанции], являются либо активными действиями, либо пассивными чувствами, и способностями тел, в то время как их длина, ширина и глубина являются количествами, а не субстанциями. .Ведь количество — это не субстанция; субстанция — это скорее то, к чему они в первую очередь принадлежат. Но когда убираются длина, ширина и глубина, мы не видим ничего, кроме того, что ограничено ими, чем бы это ни было; так что тем, кто рассматривает вопрос таким образом, одна только материя должна казаться субстанцией. Под материей я подразумеваю то, что само по себе не является ни конкретной вещью, ни определенной величиной, ни отнесенным к какой-либо другой из категорий, которыми определяется бытие. Ибо есть нечто, от чего каждый из этих предикатов относится, так что его бытие отличается от бытия каждого из предикатов; ибо предикаты, отличные от субстанции, основываются на субстанции, в то время как субстанция основывается на материи.Следовательно, конечный субъект сам по себе не является ни конкретной вещью, ни определенной величиной, ни каким-либо другим положительным характером; ни тем не менее отрицательно, поскольку отрицания также будут принадлежать ему только случайно.
Аристотель различает два вида предикатов: предикаты, обозначающие, что тела активно или пассивно подвергаются вместе с соответствующими им способностями (способностями), и предикаты, обозначающие их пространственные расширения (длину, ширину и глубину).Мысленно отбрасывая первую группу предикатов, мы остаемся с голым пространственным расширением тела; удаление этих расширений, однако, не приводит к выделению вещества этих тел; скорее, то, что мы затем «видим», — это только то, что было ограничено их расширениями «длина», «ширина» и «глубина», которые для Аристотеля были полностью неопределенной физической материей ( hulê ). Но поскольку физическая материя не удовлетворяет двум другим фундаментально важным критериям того, чтобы быть субстанцией, а именно наличию независимого («отдельного») существования и определенному «определенному определению этого» (1029 a 27–29), что-то должно быть не так с критерий, применение которого привело нас к предположению, что материя есть субстанция.Вывод таков: быть субъектом, лежащим в основе предсказания, не является достаточным критерием для определения сущности.
2,2 Второе солнце
Этот отрывок демонстрирует два случая использования мысленных экспериментов, один из которых кажется особенно близким к некоторым мысленным экспериментам в современной философии. Они встречаются в книге 7 его «Метафизика », где Аристотель критически противопоставляет платоновское учение об идеях с трудностями. В первом случае его аргумент опирается на уже распространенную в его время практику определения вещей через ближайший род и конкретное различие.Ранее в тексте было установлено, что такие определения являются общими : они применяются ко всему, что «подпадает под них». Это, однако, приводит к тому, что определения не могут изолировать индивидов как таковых , а лишь их универсальные характеристики (их «бытие», как говорит Аристотель). Это представляет трудность для теории идей, потому что в соответствии с этой теорией Идеи были бы как универсальными объектами определения, так и уникальными неопределимыми индивидами. Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Аристотель рассматривает частный и хорошо известный случай особого и (по его мнению и многих его современников) также вечного человека: Солнца. Итак, как уже было сказано, невозможность определения индивидов ускользает от внимания в случае вечных вещей, особенно таких уникальных, как солнце или луна. (а) Люди ошибаются не только, добавляя атрибуты, при удалении которых солнце сохранилось бы, например «Обходит землю» или «скрывается в ночи», поскольку, с их точки зрения, следует, что, если она стоит на месте или видна, это уже не будет солнце; но странно, если это так; поскольку «солнце» означает определенную субстанцию; (б) но также упоминанием атрибутов, которые могут принадлежать другому субъекту; е.грамм. если появится другая вещь с указанными атрибутами, очевидно, это будет солнце ; поэтому определяющая формула является общей. Но солнце должно было быть индивидуумом, как Клеон или Сократ. В конце концов, почему один из сторонников Идеи не дает определения Идеи? Если бы они попытались, стало бы ясно, что сказанное сейчас правда.
Если определения по ближайшему роду и конкретному различию не изолируют индивидов, а только их общие характеристики, тогда не может быть определения, которое выделяет уникальную Платоническую Идею — может быть только общая характеристика, под которую Идея могла бы «подпадать».Раздел (b) показывает, что все термины, которые мы используем при определении солнца, обозначают общие атрибуты, каждый из которых может применяться к множеству объектов, даже если случится так, что на самом деле существует только один из них: следовательно, если другой индивидуума, обладающего теми же характеристиками, что и возникшее Солнце, этого человека, несомненно, следует рассматривать как Солнце . Рассмотрение сценария второго солнца показывает, что определяющие формулы являются общими по самой своей природе и, следовательно, не могут охватить отдельные сущности.Другой эксперимент в (а) представляет другой сценарий с другой целью, опровержение определенных определений солнечного тока в его время. Что не нравится в них Аристотелю, так это то, что они пытаются запечатлеть природу солнца со ссылкой на несущественные атрибуты, такие как то, что оно «вращается вокруг земли» и «скрыто ночью». Чтобы мы поняли, почему такое определение должно быть неудачным, Аристотель представляет сценарий, в котором эти якобы определяющие атрибуты удаляются: оказывается, что даже если мы контрфактически предположим, что солнце стоит на месте или его видно ночью, это все равно будет правдой. что мы будем думать о нем как о солнце . 12 Следовательно, определение Солнца посредством таких и других «атрибутов, удаление которых Солнце могло бы пережить» не позволяет уловить, что в основе своей представляет собой солнце (вещь или субстанция).
2,3 Если бы все было цветами
Здесь Аристотель выступает против определенного класса математически мыслящих философов. Эти философы постулируют единство («один») и числа как фундаментальные элементы своих онтологий и объясняют, что есть вещи, кроме чисел, в терминах таких метафизических чисел.Его цель — опровергнуть этот тезис, показав, что число и единство слишком тонки как понятия, чтобы можно было объяснить, чем являются вещи, отличные от чисел. Структура аргумента — reductio . Аристотель начинает с рассмотрения случая метафизического анализа вещей посредством единства и чисел, а именно широко распространенного в его время анализа цветов как числовой пропорции белого и черного. Но в цветах один — это цвет, например белый — наблюдаются другие цвета, производимые из этого, и черный, а черный — это недостаток белого, как темнота света.
В этом случае белый цвет занимает место «единственного», то есть первого метафизического принципа, в своей области (цветах), потому что другие цвета генерируются посредством числовых пропорций белого и черного, где черный задуман. как полное отсутствие (или недостаток, отсутствие) белого цвета на цветовой шкале. Аристотель согласен с этой теорией. Он согласен с тем, что все другие цвета определяются как значения между крайними значениями в цветовом спектре белого и черного, и что, следовательно, все промежуточные цвета являются продуктами (числовых) пропорций белого и черного.Например, «зеленый» цвет представляет собой смесь определенной части белого и определенной части черного. Но поскольку черный — это всего лишь полное отсутствие белого в цветовом спектре, белый — «единственный» в области цветов: все промежуточные цвета можно свести к его комбинации и отсутствию таковых. Теперь Аристотель резко расширяет сценарий: Следовательно, если бы все существующие вещи были цветами, существующие вещи действительно были бы числом, но чего? Ясно цветов ; и один должен быть что-то , т.е.грамм. белый.
Аристотель использует абсурдный сценарий, согласно которому все существующие вещи являются цветами, чтобы выявить фундаментальный изъян в теории философов с математическим складом ума. Эти мыслители полагают, что единство и числа каким-то образом являются самосуществующими сущностями, к которым можно метафизически свести все остальные вещи. Однако, хотя это может работать в случае числовых величин, это не работает в случае других категорий, даже в относительно бесспорном случае числового анализа цветов: ведь даже если Аристотель соглашается, что цвета должны анализироваться в Что касается числовых пропорций белого и черного, то они по-прежнему сохраняют числовые пропорции цветов .Цифры цветов соответствуют номерам и , а именно цветам. Итак, если есть сокращение цветов до чисел, это происходит в силу того факта, что числа являются числами цветов. Из этого мы узнаем, что сокращение цветов до числовых пропорций других цветов, даже когда это возможно, не сводится к уменьшению цветов до чисел. Математически мыслящая теория терпит неудачу, потому что игнорирует этот основной концептуальный факт. Эксперимент показывает это, представляя очень простой качественный мир: даже если бы все предметы были цветами и, следовательно, сводились к числовым пропорциям белого и черного, это не дало бы нам сведения цвета к единице и числу.Единство и число слишком тонки как понятия, чтобы объяснить что-либо, кроме количеств. 13
3 Философская психология
3,1 Почему плоть — не орган осязания: мембрана и воздушная оболочка
Опять мысленный эксперимент с важной целью. На этот раз проверяется тезис о том, что плоть — это орган осязания. Эксперимент проходит в два этапа. На первом этапе Аристотель пытается обезвредить то, что другие считают хорошим доказательством того, что мы думаем, что плоть — это орган осязания, а именно то, что мы немедленно воспринимаем чувства нашей плоти: На вопрос, лежит ли орган осязания внутрь или нет (т.е. нужно ли нам смотреть дальше, чем плоть), нельзя сделать никаких выводов из того факта, что если объект соприкасается с плотью, он сразу же воспринимается. Ведь даже в настоящих условиях, если мы плотно натягиваем мембрану на плоть, как только это касается, ощущение передается так же, как и раньше, но ясно, что орган не находится в этой мембране. И если бы мембрану можно было даже нарастить до плоти, сообщение распространялось бы еще быстрее.
Здесь Аристотель ставит под сомнение идею о том, что наше непосредственное восприятие прикосновения к нашей плоти показывает, что плоть является органом осязания: если мы представим, что внешняя оболочка плотно натянута на нашу плоть, мы почувствуем то же самое. Почему же тогда думать, что наша плоть чем-то отличается от такой оболочки? И если мы далее представим, что эта мембрана срастается с нашим телом (как в случае с нашей плотью), из сценария следует, что мы будем воспринимать контакт с мембраной с той же непосредственностью, что и контакт с нашей плотью.В этом случае оправдание, с которым мы думаем, что эта внешняя оболочка является органом осязания, примерно такое же, как оправдание, с которым мы теперь думаем, что этим органом является плоть. На следующем этапе Аристотель расширяет сценарий, чтобы выявить одну из положительных ролей, которую наша плоть играет в восприятии. Если мы представим, что наши тела окружены воздушной оболочкой, растущей вокруг наших тел — подобно тому, как наша плоть вырастает из наших тел, — мы естественным образом придем к выводу, что отдаленные органы чувств — слуха, зрения и обоняния. все принадлежали одной и той же чувственной модальности.Но на самом деле мы не верим этому , потому что тела и органы, через которые эти различные чувственные объекты передаются к нам, в каждом случае различны, что является точкой зрения Аристотеля: Вот почему та часть тела, которая имеет это качество [т.е. плоть] относится к нам очень похоже на воздушную оболочку, которая растет вокруг нашего тела; Имея такую оболочку, мы должны были бы предположить, что мы воспринимаем звуки, цвета и запахи одним органом, и должны были бы воспринимать зрение, слух и обоняние как единое чувство.Но как бы то ни было, поскольку то, через что передаются различные движения, не связано естественным образом с нашими телами, разница между различными органами чувств очевидна. Но в случае касания это сейчас непонятно.
А как насчет проксимальных органов чувств? Далее по тексту Аристотель утверждает, что у природы как бы не было другого выбора, кроме как создать тела, через которые мы получаем прикосновение, вкус и запах, с одним и тем же телом, плотью.
3,2 Если бы белый был единственным заметным
Этот мысленный эксперимент используется, чтобы предположить, что природа наделила нас множеством чувств, чтобы мы могли различать и изолировать в мыслях перцептивные особенности, общие для множества наших чувств, такие как протяженность, числа и движение, от то, что он называет «особыми умниками». Особые чувственные объекты — это те воспринимаемые объекты, которые являются исключительными для каждой чувственной модальности (цвет для зрения, звук для слуха, запах для обоняния и т. Д.).Аристотель пытается установить эту точку зрения, представляя экстремальный сценарий мономодального восприятия, в котором мы обладаем только одной единственной чувственной модальностью, а именно зрением, с одним единственным воспринимаемым объектом, а именно с «белым» цветом. В этом сценарии мы вряд ли сможем отличить число, движение, протяженность и тому подобное от белизны, которую мы воспринимаем. А это, в свою очередь, предполагает, что мы обладаем более чем одной чувственной модальностью — возможно, среди прочего — для того, чтобы иметь возможность отличать содержание, специфичное для каждой чувственной модальности, от воспринимаемых характеристик, общих для множества из них: Могут спросить, почему у нас больше одного чувства.Чтобы предотвратить неспособность понять общие мысли, например движение, величина и число, которые связаны с особыми ощущениями? Если бы мы не чувствовали, кроме зрения, и не чувствовали бы никакого объекта, кроме белого, они имели бы тенденцию ускользать от нашего внимания, и все слилось бы для нас в неразличимую идентичность из-за сочетания цвета и величины. Как бы то ни было, тот факт, что общие чувственные ощущения даны в объектах более чем одного чувства, обнаруживает их отличие от всех без исключения особых чувственных ощущений.
4 Космология
4,1 Опровержение теории Атласа
Это особенно интересный мысленный эксперимент. Аристотель постоянно обсуждает, что для него является явно ложной теорией движения Вселенной. Его мотив в этом состоит в том, чтобы выявить общее ограничение типа теории , представленное теорией Атласа. Чтобы увидеть, насколько Аристотель использует контрфактические сценарии в своих философских целях, мы должны проследить ход его аргументов на протяжении большей части целой главы «О движении животных» .Контекст — это обсуждение механического принципа самостоятельного передвижения животных, который Аристотель представил и защищал в предыдущих главах трактата. Согласно этому принципу, локомотивным агентам, чтобы перемещать свои тела с места на место, обязательно требуется внешняя и неподвижная точка покоя, чтобы иметь возможность противостоять ей.
Принцип внешней опорной точки: Самодвижущиеся агенты, чтобы перемещать свои тела из одного места в другое, обязательно нуждаются во внешней точке покоя, которая неподвижна по отношению к ним.
В предыдущей главе было дано три примера, чтобы проиллюстрировать невозможность изменения собственного локомотива без такой внешней и неподвижной опоры. 1. Мыши, чьи ноги застряли в поле, не будут двигаться вперед, потому что они не могут отделить свое собственное движение от движения земли, на которой они стоят. Они забирают, так сказать, свою землю с собой. 2. Ходящие по песку пешеходы не пойдут вперед, потому что песок не может обеспечить опору, которая остается неподвижной по отношению к их собственному движению.3. Моряк на лодке не может перемещать лодку, поддерживая себя изнутри лодки. Этот последний пример очень ясно иллюстрирует необходимость того, чтобы точка опоры была внешней по отношению к самодвижущемуся телу: точка опоры не должна быть частью самодвижущегося тела, которым в случае третьего примера является не моряк, а лодка, на которой стоит моряк. По словам Аристотеля, без такой внешней опоры ни мифический великан Титий, ни бог ветра Борей, дующий в парус, не сдвинули бы лодку с места.На этом этапе, как только принцип установлен, Аристотель расширяет сферу обсуждения до космологического масштаба, задавая вопрос, потребует ли движение Вселенной в целом такой внешней опорной точки. 14 Кто-то может поставить такую задачу: если что-то движется по всем небесам, должно ли быть что-то неподвижное, что не является ни частью неба, ни небесами?
В ответ Аристотель различает два разных сценария, в которых вселенная («все небеса») перемещается движителем, и отвечает утвердительно в обоих случаях: Если он [я.е. движитель вселенной] движется сам, а также движет небеса, он должен касаться чего-то неподвижного, чтобы передать движение, и это не должно быть частью движителя; и если движущийся неподвижен с самого начала, он также не должен быть частью того, что движется.
В первом сценарии Вселенная перемещается перемещаемым двигателем, т. Е. Самодвижущимся, который, со своей стороны, требует внешней и неподвижной точки покоя; во втором сценарии Вселенная перемещается движителем, в котором две функции точки покоя и движителя совпадают: неподвижный движитель.В первом и более знакомом сценарии движущийся должен опереться на неподвижную и внешнюю точку покоя, как в случае с животными; в последнем сценарии, напротив, сам движитель должен быть расположен за пределами Вселенной. Следовательно, оба сценария подтверждают, что принцип внешней опорной точки применим повсеместно: все движения, включая движение Вселенной в целом, требуют внешней неподвижной опорной точки.
Космологическое применение принципа опорной точки приводит к парадоксальному результату.Как может быть что-то за пределами вселенной ? И как это что-то может быть достаточно сильным, чтобы служить платформой для движения Вселенной? 15 Теперь мы знаем, что для Аристотеля такой результат почти абсурден, поскольку в своей книге «Метафизика » он учит доктрине о первом и совершенно неподвижном двигателе за пределами вселенной. Но Аристотель также верит в методологическую независимость физики от других разделов философии. Поэтому он осторожен, чтобы избежать здесь явных ссылок на свою метафизическую доктрину, и поэтому оставил без внимания свое возвышенное и спорное заявление о первом и совершенно неизменном двигателе за пределами вселенной.Все, что мы «официально» знаем на данный момент, это то, что применение принципа внешней опорной точки в космологическом масштабе требует внешней платформы также для движения Вселенной. Тем не менее, как мы увидим, то, что побуждает его к дальнейшему изучению космологического измерения Принципа внешней опорной точки, явно заключается в том, что он дает ему независимое подтверждение его метафизической доктрины.
Вот и контекст. Теперь Аристотель переходит к обсуждению конкурирующих теорий относительно происхождения движения Вселенной.Он начинает с теории, предложенной предыдущими мыслителями. Что делает эту теорию интересной для него, так это то, что эти мыслители, казалось, знали о проблеме, которую Принцип внешней опорной точки ставит для теорий, постулирующих внутренние движущие силы Вселенной; Более того, они, кажется, также предложили решение проблемы, которое позволяет избежать парадоксального следствия этого принципа, заключающегося в существовании поддерживающей платформы за пределами Вселенной. Этим потенциальным соперником доктрины Аристотеля о первом неподвижном двигателе вселенной является так называемая теория полюсов. И, по крайней мере, в этом отношении они совершенно правы, которые говорят, что когда шар переносится по кругу, никакая часть не остается неподвижной; ибо было бы необходимо, чтобы либо все это оставалось неподвижным, либо чтобы его непрерывность была разорвана на части. Но они неправильно приписывают силу полюсам, которые не имеют размера и являются концами и точками. Ведь помимо того факта, что ничто такого рода не имеет никакой субстанции, невозможно передать простое движение посредством того, что есть два; и они делают полюсов двумя.Исходя из подобных соображений, можно усомниться в том, что есть что-то такое, что имеет такое же отношение ко всей природе, как земля к животным и движущимся ими вещам.
Аристотель хвалит сторонников теории полюсов за выявление проблемы, которая кажется очень близкой к тому, что он сам только что описал в терминах принципа внешней опорной точки: вращающаяся Вселенная имеет всех движущихся частей, что является сказать, что ни одна часть не остается на месте; однако, если движущийся и перемещаемый должны быть отделены друг от друга, как, кажется, согласны сторонники теории полюсов, ни одна из частей Вселенной не может служить движущей силой (под угрозой того, что либо вся Вселенная будет застой или нарушение его физической сплоченности, заставляя одну его часть отдыхать, а другую двигаться).Похоже, это фундаментальное понимание, на котором зиждется теория полюсов. И Аристотель соглашается. Однако теория предлагает выход из затруднительного положения, с которым он не согласен: если полюса его оси вращения являются движителями Вселенной, движители будут неподвижны (геометрические объекты не подвержены движению) и ни физических частей, ни внешнего мира Вселенной. Таким образом, на первый взгляд теория полюсов удовлетворяет всем требованиям принципа внешней опорной точки, в то же время ей удается избежать контринтуитивного следствия, которое Аристотель извлек из своего приложения к движению вселенной, а именно, что должна быть неизменная платформа за пределами вселенной.
Главный ход Аристотеля в опровержении теории полюсов состоит в том, чтобы просто настаивать на причинной инерции полюсов: полюса — это геометрические объекты. Таким образом, им не хватает физических сил («не имеют размера» и «материи»): нет ничего, что они могли бы привести в движение. В этом отношении полюса ничем не отличаются от других нефизических объектов, таких как линии, точки, концы и так далее. 17 Этим Аристотель считает себя опровергающим теорию полюсов. Соответственно, он завершает раздел на несколько торжествующей ноте, говоря, что возражения такого рода (т.е. типа теории полюсов) может быть противопоставлен его тезису о том, что должна существовать внешняя неподвижная опорная точка движения неба. Это ясно означает, что теории, которые стремятся обойти принцип внешней опорной точки на основе предположения о внутренних движущих силах вселенной, должны потерпеть неудачу.
Однако Аристотель продолжает обсуждать еще следующую теорию , которая предлагает уже опровергнутую гипотезу о внутреннем двигателе Вселенной, причем особенно грубую.Это теория Атласа, которая, к тому же, является теорией, созданной самим Аристотелем. Он экстраполирует это из мифических художественных изображений Атласа Титанов: Те, кто мифическим образом изображает Атласа ногами на земле, похоже, рассказали свою басню с намерением описать его как своего рода ось, вращающую небеса вокруг полюсов. Теперь это было бы вполне разумно, поскольку Земля остается неподвижной.
Аристотель не рассматривает теорию Атласа как жизнеспособную альтернативу.Совершенно очевидно, что эта теория становится жертвой того же смертельного возражения против всех теорий внутренних движителей вселенной, которое Аристотель только что выдвинул против теоретиков полюсов: поскольку во вращающейся вселенной ни одна часть вселенной не стоит на месте, принцип внешней опорной точки будет также необходима внешняя точка отдыха для Атласа. Ему либо придется стоять на платформе за пределами вселенной, что, по предположению, у него нет, либо он будет стоять на неподвижной платформе внутри вселенной, а именно на Земле.Однако, как уже видели теоретики полюсов, это разорвало бы его физическую непрерывность, поскольку принцип внешней опорной точки требует, чтобы платформа не была частью вселенной. 18 Почему же тогда Аристотель потрудился обсуждать теорию Атласа? Его интересует не теория как таковая, а тот факт, что обсуждение теории выявит общую черту всех физических теорий внутренних движителей Вселенной. Дело в том, что все такие теории, как мы увидим, в силу предложения физических сущностей в качестве движущих сил, а именно.платформам не хватает объяснительной силы для объяснения абсолютной необходимости , с которой Аристотель полагает, что движения небес происходят: физические сущности контингентны , то есть они допускают возможность быть иными, чем они есть на самом деле. Эта модальная особенность физических движителей делает их непригодными для объяснения порядка крупномасштабных движений Вселенной в глазах Аристотеля, что, по его мнению, не может быть иначе. Выявить этот принципиальный недостаток объяснительной силы физических теорий движения небес — и тем самым намекнуть на силу его собственной теории нефизического первого неподвижного движущегося — вот что побуждает его обсуждать в этом пункте явно ложная атлас-теория.
Он начинает с описания некоторых следствий и объяснений теории Атласа. Если Атлас должен функционировать как ось, проходящая между землей и внешним небом, принцип внешней опорной точки требует не только того, чтобы земля оставалась неподвижной, но также, чтобы земля не была частью вселенной. Это первое абсурдное следствие теории Атласа. Но Аристотель продолжает обсуждать сценарий Атласа. Его следующий удар по теории состоит в том, чтобы указать, скольким физическим силам должна будет противостоять поддерживающая платформа Атласа — Земля.Это должна быть не только кинетическая сила, с которой Атлас вращает небеса вокруг себя, но и статические силы небес и самого Атласа: Но если они дадут такой отчет, они должны признать, что Земля не является частью вселенной. Кроме того, силы того, что вызывает движение (то есть Атлас), и того, что остается неподвижным (то есть Земли), должны быть уравновешены. Ибо есть определенная сила и мощь, благодаря которой то, что остается, остается, точно так же, как есть сила, в силу которой движущийся передает движение.И есть необходимая пропорция, как противоположных движений, так и состояний покоя. И равные силы не зависят друг от друга, но они преодолеваются превосходством силы. Таким образом, Атлас или что-либо подобное, передающее движение изнутри, должно оказывать давление не больше, чем фиксированность, с которой Земля остается стабильной, иначе Земля будет перемещена от центра из своего надлежащего места. Ибо, как толкатель толкает, толкаемый толкается, то есть с аналогичной силой. Но то, что придает движение, начинается с состояния покоя, так что его сила должна быть больше, чем аналогична и равна его собственной устойчивости, и, аналогично, больше, чем устойчивость того, что движется, но не сообщает. движение.Тогда сила устойчивости земли должна быть такой же большой, как сила всего неба и того, что движет ими.
Если Атлас стоит на земле, земля должна будет противостоять всему весу Атласа и небес, а также движущей силы, с которой Атлас вращает небеса вокруг себя. Учитывая огромную диспропорцию между размерами земли и неба, Аристотель намекает, что приписывание такой силы сопротивления Земле является не чем иным, как физической невозможностью: А если это невозможно, то невозможно, чтобы небеса двигались чем-то подобным внутри них.
Здесь Аристотель явно использует теорию Атласа, чтобы противопоставить всем теориям внутренних движителей небес: 19 для явной несоразмерности размеров движущегося и перемещаемого, нет такая теория преуспеет в том, чтобы сделать правдоподобным утверждение о том, что во Вселенной существует некая платформа для отдыха, достаточно сильная, чтобы противостоять как движущейся, так и покоящейся силам. все остальное в нем. Но, несмотря на вышесказанное, обсуждение продолжается.Аристотель далее останавливается на сценарии, чтобы выделить дополнительную особенность теории Атласа и ей подобных, которая его особенно интересует. Это принципиальное ограничение в модальности , с помощью которой она и любая подобная теория может объяснить движения небес. Теперь обсуждение принимает форму задачи ( aporia ): Есть проблема, связанная с движением частей Вселенной, которую мы можем рассматривать как тесно связанную с тем, что мы только что сказали.Ибо, если бы кто-то мог силой движения преодолеть устойчивость земли, ясно, что он сдвинул бы ее подальше от центра. И очевидно, что сила, из которой будет происходить эта сила, не бесконечна. Земля не бесконечна, поэтому и ее вес тоже не бесконечен.
Аристотель противопоставляет теорию Атласа следующему воображаемому сценарию: если мы предположим, что еще один движущийся двигает Землю от ее центрального положения, то это движение потребует лишь конечного количества силы, поскольку размер (и сила покоя) Земля тоже конечна.Это означает, что порядок движений Вселенной может быть нарушен конечной силой, то есть в сценарии, предложенном теорией Атласа и всеми теориями, которые постулируют внутренние движущие силы Вселенной, это было бы возможным. , чтобы растворить порядок во вселенной. Физический характер их гипотез подразумевает, что сила покоя опорной точки для движения Вселенной будет иметь физически определенную и, следовательно, конечную величину. Именно с этой возможностью нарушения порядка в физическом мире, как это подразумевается физическим характером теорий, подобных теории Атласа, Аристотель оспаривает: «Невозможное» имеет несколько значений: когда мы говорим, что невозможно увидеть ни звука, а чтобы увидеть людей на луне, мы используем два разных значения этого слова.Первое невидимо по необходимости; последние, хотя и имеют такую природу, чтобы быть видимыми, на самом деле невидимы. Теперь мы верим, что Вселенная нетленная и нерушимая по необходимости.
Простая физическая невозможность, согласно которой что-то, что могло бы случиться, на самом деле никогда не случится, недостаточна для Аристотеля, когда дело касается физического порядка вселенной; этот порядок должен быть невозможно растворить так же, как невозможно увидеть звук, т.е.е. необходимо в смысле «иначе быть невозможно». Такого рода необходимость является чем-то, что теория Атласа (а вместе с ней и весь класс теорий, которые она здесь представляет) не может предоставить : эти теории объясняют порядок Вселенной посредством физического события. Физические события конечны и случайны. Итак, независимо от того, могут ли такие теории объяснить движение небес (а Аристотель дал нам достаточно оснований полагать, что они не могут), они неспособны объяснить необходимость, с которой, по мнению Аристотеля, существует физический порядок Вселенной: Но результат этого аргумента [физического движителя вселенной] состоит в том, что это не так необходимо.Ибо естественно и возможно движение большее, чем то, благодаря которому земля остается устойчивой и благодаря которому движутся огонь и тело наверху. Если тогда будут подавляющие движения, эти тела будут отделены одно от другого. 20 А если их нет, но, возможно, будет (поскольку не может быть бесконечного движения, потому что даже невозможно, чтобы тело было бесконечным), небеса могли бы раствориться.Ибо что мешает этому, если это не невозможно? И это возможно, если не требуется обратное. Но давайте обсудим эту проблему в другой раз.
Заключительным заявлением о том, что истинность теории Атласа совместима с возможностью распада порядка вселенной, Аристотель достиг своей цели. Обсуждение контрфактического и, по крайней мере для Аристотеля, также явно ложного и даже невозможного теоретического сценария помогло ему выделить модальную черту, присущую всем теориям внутренних физических движущих сил, и тем самым выявить их принципиальные объяснительные ограничения.Теперь Аристотель возвращается к вопросу, поставленному в начале раздела: Но должно ли быть что-то неподвижное и неподвижное вне того, что движется и не является его частью, или нет? И должно ли это обязательно относиться и ко Вселенной? Ибо кажется, что было бы парадоксально, если бы источник движения находился внутри. Вот почему для тех, кто так считает, слова Гомера могут показаться хорошо сказанными: Но ты не мог черпать с небес на землю Зевс, величественнейший из всех, нет, даже если тебе придется сильно бороться, пока ты не устанешь. Держитесь за веревку, все вы, боги и богини. Ибо то, что полностью неподвижно, не может быть перемещено ничем. В этом заключается решение проблемы, о которой мы упоминали выше, а именно: возможно ли или невозможно растворить композицию неба, если это зависит от неизменного происхождения.
Выявив ограниченность теории Атласа, а вместе с ней и всех других теорий, которые постулируют внутренние движущие силы вселенной, Аристотель указывает на то, что, по его мнению, является важным достоинством его собственной теории (на что указывает его триумфальная цитата Гомера). : только нефизический («полностью неподвижный») движитель вне вселенной, как утверждается в Аристотеле Метафизика , способен объяснить абсолютную нерушимость порядка вселенной.
5 Заключение: как бы Аристотель думал о мысленных экспериментах?
Аристотель использует мысленные эксперименты на основе принятой мной здесь минимальной концепции для получения данных в эпистемически сложной местности. Насколько мы можем понять из нескольких примеров, которые я здесь представил, контексты использования различаются: некоторые служат для положительного установления точки, в то время как другие (большинство из них) используются для критических целей, то есть служат для опровержения данного тезиса. Таким образом, мы можем сказать, что Аристотель использует мысленные эксперименты для аргументативного убеждения и в тех местах, где из-за неясной природы предмета или контринтуитивного характера тезиса, который они призваны поддержать, понимание не может быть легко передано посредством обращения к наблюдательным методам. факты. 22 И, как мы видели в случае теории Атласа, его целью может быть даже целый класс теорий, а не конкретное утверждение. Это, однако, не означает, что мысленные эксперименты необходимы для Аристотеля. Я не могу вспомнить пример, точку зрения которого он не мог бы передать другим, даже если бы, возможно, значительно менее ярким способом. Вот и все, что касается различных контекстов использования мысленных экспериментов у Аристотеля.
Как бы он сам классифицировал мысленные эксперименты? Это трудный вопрос.Мое лучшее предположение состоит в том, что он хотел бы провести различие между мысленными экспериментами как методом генерации данных из воображаемых сценариев, с одной стороны, и формами рассуждений — с другой. Идентичность форм рассуждений не должна зависеть от того, связаны ли их содержание с воображаемыми сценариями или нет. Кроме того, признанные Аристотелем формы рассуждений, которые имеют наибольшее сходство с мысленными экспериментами, а именно гипотетические силлогизмы, reductio ad absurdum и (аристотелевские) примеры, похоже, не дают нам того, что мы хотим: ни один из них не определяется в терминах качества сценариев или предположений, которые они включают.Особенности гипотетических аргументов (аристотелевские гипотетические силлогизмы), безусловно, имеют важное, если не решающее значение, связаны с аргументативными контекстами, в которых он использует мысленные эксперименты (я не могу вдаваться в подробности здесь. 23 ), но отождествление их с гипотетическими силлогизмами неправдоподобно расширит концепцию мысленных экспериментов, чтобы охватить также совершенно абстрактные случаи, такие как аргумент, начинающийся с «предположим, что не-р». И поскольку мысленные эксперименты Аристотеля происходят как в reductio ad absurdum , так и в конструктивных аргументах, мы также можем с уверенностью исключить reductio . 24 Наконец, примеры, по крайней мере в особом понимании Аристотелем их как формы вывода (не путать с примерами, так как элементы, которые используются в таких выводах), также не подходят. Аристотелевский пример (парадигма ) — это вывод из одного частичного, подпадающего под одну данную универсальную, на другую и менее известную частность как подпадающую под ту же универсальную ( Anal. Pr . II. 24 25 ).Это, однако, кажется, идет вразрез с духом мысленных экспериментов, как мы понимаем — и как мы обнаружили, что Аристотель использовал — их здесь, поскольку кажется важным для такого рода вывода, что конкретный пример, который он использует, — это знакомый случай попадания под соответствующий универсал. 26
Мне кажется более перспективным взглянуть на мысленные эксперименты с точки зрения их условий использования . Мы можем рассматривать мысленные эксперименты как нечто гораздо более слабое, чем формы рассуждения, а именно «стратегии рассуждения» (хотя от этого имени ничего не зависит): как я понимаю, стратегия рассуждения — это стратегия аргументации, зависящая от предметной области. может использоваться в областях, где стандартный аргументативный репертуар не приводит к удовлетворительным результатам.Примером может служить изречение Аристотеля «природа ничего не делает напрасно», которое служит особым эвристическим приемом для выявления объяснительных признаков в некоторых из наиболее сложных областей его натурфилософии. 27 Другой пример — принятие Аристотелем в его астрофизической работе На небесах тезиса о том, что небесные тела одушевлены и каким-то образом участвуют в преднамеренных действиях. Принятие этого тезиса, кажется, равносильно некоторому выводу к лучшему объяснению. 28 Мотивация Аристотеля к этому кажется явно стратегической: грубо говоря, он утверждает, что, учитывая скудность эмпирических данных в астрофизике, из-за удаленности небесных тел от чувственного восприятия, мы можем лучше всего ответить на неразрешимые в противном случае астрофизические вопросы, постулируя, что звезды являются преднамеренными агентами. 29 С точки зрения методологического самосознания это замечательное утверждение. Здесь Аристотель сознательно компенсирует недостаток эмпирических данных в астрофизике (смелой) гипотезой, которая позволит ему объяснить то, что в противном случае было бы для него совершенно неразрешимыми проблемами.Заманчиво обобщить здесь и вывести из таких утверждений общую методологическую максиму о том, что использование нами более изобретательных способов рассуждения должно положительно согласовываться с эмпирической недоступностью релевантных эмпирических данных. Это, как мне кажется, было бы правдоподобным кандидатом на общую позицию, которую Аристотель мог бы занять в отношении использования более изобретательных аргументативных стратегий, включая рассмотрение гипотетических сценариев в мысленных экспериментах.В конце концов, мысленные эксперименты, по крайней мере, типичные, служат для того, чтобы заставить нас пережить в мыслях то, что мы иначе не смогли бы пережить.
Банкноты
Список литературы
Бурнеат, М. (2004) «Введение: Аристотель об основах подлунной физики» в книге Аристотеля «О порождении и порче» под редакцией Ф. де Хаас а также Дж. Maansfeld , Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Кривелл, П. (2011) «Аристотель о силлогизмах гипотезы», в «Аргументы от гипотез в античной философии», под редакцией Э.Лонго а также Д. Дель Форно , Неаполь: Bibliopolis.
Гален (1978) De Placitis Hippocratis et Platonis, отредактированный, переведенный и с комментариями П. Де Ласи . Берлин: Академия Верлаг.
Гоббс, Т. (1994 [1651]) Левиафан или Материя, форма и сила общего церковного и гражданского богатства, Индианаполис: Hackett.
Иеродиакону, К. (2005) «Древние мысленные эксперименты: первый подход», Античная философия. 25: 125–140.
Кант, И. (1998 [1781]) Критика чистого разума.Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Кукконен, Т. (2002) «Альтернативы альтернативам: подходы к аргументам Аристотеля на невозможное», Виварий. 40: 137–173.
Леннокс, Дж. (1997) «Природа ничего не делает напрасно», в Beiträge zur antiken Philosophie: Festschrift für Wolfgang Kullmann, под редакцией Х.-К. Гюнтер а также А. Rengakos , Штутгарт: Франц Штайнер.
Леуниссен, М. (2010) Объяснение и телеология в естествознании Аристотеля, Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Ллойд, Дж. Э. Р. (1996) Аристотелевские исследования, Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Мах, Э. (1905) Erkenntnis und Irrtum, переведенный как «Знание и ошибка: очерки психологии исследования». Томас Дж. Маккормак . Дордрехт: издательство D. Reidel Publishing.
Менн, С. (2012) «Богословие Аристотеля», в Оксфордском справочнике Аристотеля, под редакцией С. Щиты , Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Маллиган, С.Д. (2008) Если бы рыбы были сделаны из железа, доктор философии.Докторская диссертация, Библиотека и архивы Канады, Библиотека и архивы Канады.
Нуссбаум, М.С. (1985) Аристотеля Де Моту Анималиум, Принстон: Издательство Принстонского университета.
Примавеси, О. (2017) Аристотель, De Motu Animalium: Ein Neues Bild der Überlieferung und ein Neuer Text, Берлин: De Gruyter.
Стокс, Дж. Л. (1922) Работы Аристотеля, переведенные на английский язык, Оксфорд: Clarendon Press.
Стериг, Х. Дж. (1965) Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft, Штутгарт: Кольхаммер.
Эксперимент с мыслями о пицце | Риккардо Манзотти
Thomas Dworzak / Magnum Photos
Турин, Италия, июнь 2016 г.
«Я думаю, следовательно, я существую». Декарт объявил мышление конечной реальностью, единственным способом быть уверенным в своем существовании. Он обнаружил это мышление в уме и полагал, что оно нематериальное, созданное из духа, общающееся с физическим телом через шишковидную железу в верхней части позвоночника. Времена изменились, и теперь ученые ищут объяснения опыта мышления в миллиардах нейронов мозга с их триллионами электрических связей и химических процессов.Тем не менее, расположение мысли прочно остается в голове. Оспаривая это, Риккардо Манзотти предположил, что наш опыт фактически находится вне нашего тела, с объектами нашего восприятия. Он распространил это на сны и галлюцинации, рассматривая их как случаи запоздалого и запутанного восприятия. Но, конечно же, мышление и, в частности, внутренний монолог, которым большинство из нас живет и называет себя, нельзя представить себе как происходящее где-нибудь, кроме узких границ черепа …
— Тим Паркс
Это тринадцатое в серии из пятнадцати разговоров о сознании между Риккардо Манзотти и Тимом Парксом.
Тим Паркс : Когда кто-то думает о богатстве сознательной жизни, о постоянном наложении мыслей и восприятий, о словах, которые крутятся в нашем сознании, когда мы идем по улице или закрываем глаза на Во сне очень трудно понять, как это можно представить себе как реальность вне нашего тела.
Риккардо Манзотти : Нам нужно установить, что мы подразумеваем под мыслью. Вы когда-нибудь видели, например, мысль? Выявлял ли когда-либо какой-либо научный инструмент? Сможете ли вы построить детектор мыслей? В частности, действительно ли вы переживаете мысль, любую мысль как отдельную и отличную от объекта этой мысли?
Паркс : Очевидно, вы хотите, чтобы я ответил «нет» на все эти вопросы.Но насчет последнего я не уверен. У меня действительно создается впечатление, что я испытываю мысли и что то, что я переживаю, не совпадает с тем, о чем я думаю …
Манзотти : В этом случае мысль, скорее всего, будет идентична языку, на котором она в рамке. По сути, у нас есть два варианта: либо мы думаем о вещах напрямую, либо мы думаем о вещах словами и предложениями. Я предлагаю на время приостановить речь и сосредоточиться непосредственно на размышлениях о вещах и ситуациях.Когда я думаю, скажем, о Колизее, что я думаю о Колизее, как не о самом Колизее?
Парки : Вы попытаетесь включить мысли в категорию длительного, отложенного или перетасованного восприятия, как вы это делали со сновидениями и галлюцинациями. Некоторый предыдущий контакт с Колизеем, или с фотографией или фильмом Колизея, или с чем-то написанным о Колизее, продолжает воздействовать на мое тело, и я думаю, на Колизей.
Манзотти : Вправо.Нет такой вещи, как мысль, которая находится между вашим телом и Колизеем, или фотография, которую вы видели, или статья, которую вы читали об этом, нет необходимости в какой-то нематериальной мыслительной магии, чтобы связать ваши действия с внешним миром. Мир. Просто есть ваше тело и есть внешняя вещь, с которой ваше тело контактировало. Конечно, есть также множество нейронных механизмов, которые позволяют миру производить эффекты через тело, но переживания, которые мы называем мыслями, не больше и не меньше, чем внешний объект, поскольку он воздействует на тело.
Паркс : Мне кажется, что вы постоянно стремитесь свести то, что большинство людей называют ментальной жизнью, к непосредственному опыту материального мира, но для этого вы сами придумываете сложные и провокационные формулировки, которые не может быть легко возвращено к какому-либо первоначальному контакту с миром.
Манзотти : Давай поэкспериментируем. Подумайте о чем-нибудь прямо сейчас. Что-нибудь.
Парки : Хорошо.
Манзотти : А теперь опишите свою мысль.
Парки : Пицца с баклажанами и пармезаном.
Манзотти : Это не мысль. Это то, что вы подумали о ! Я не просил вас описывать предмет вашей мысли. Я сказал вам подумать о чем-то, а затем описать мысль, а не что-то.
Парки : Хм. Приятно. Слюнки текут. Горячий.
Манзотти : Все эти прилагательные относятся к пицце или к реакции организма на пиццу.То, что вам нравится думать как мысль, — это просто объект.
Паркс : Но когда я отхожу от объекта, мое мышление позволяет мне выполнять все виды вещей, которые я не мог сделать, не думая, — не в последнюю очередь, участвуя в этом разговоре.
Манзотти : Как вы думаете, когда играете в шахматы?
Парки : Надеюсь. Хотя я плохой игрок.
Манзотти : Вы думаете примерно так: «Если я двинусь конем, чтобы захватить его слона, я рискую подвергнуть своего короля атаке на ферзевом фланге ладьи, которая сейчас скрывается за пешечным щитом»?
Парки : Такие вещи.
Манзотти : И вы называете это мышлением?
Парки : Как еще это назвать?
Манзотти : За последние пятьдесят лет были разработаны компьютеры, которые играют в шахматы намного лучше, чем вы, не говоря уже о решении математических задач, вождении автомобилей и т. Д. — достижениях, которые вы ассоциируете с мышлением. Но есть ли у компьютеров мысли? Конечно, нет. Кто-нибудь когда-нибудь обнаруживал мысль внутри компьютера? Нет. Когда вы получаете степень в области информационных технологий или искусственного интеллекта, не существует курсов или экзаменов о мыслях.То, что мы называем мышлением, — это форма действия, способ, которым наше тело организует наше поведение в ответ на те внешние причины, о которых говорят наши так называемые мысли.
Parks : Но компьютер играет без какого-либо опыта игры. Он не говорит себе: «Ха, теперь он меня загнал в угол». Он не радуется, когда выигрывает, и не ругается, когда проигрывает. Он даже не знает, что играет в шахматы. Он просто выполняет серию инструкций.
Манзотти : Я не говорил, что компьютеры обладают сознанием.Однако компьютеры показывают, что когнитивные навыки не требуют мыслей. Вам не нужны нематериальные мысли, чтобы выбрать в шахматной партии лучший ход. Это физическая цепочка причин и следствий, которая начинается с внешних объектов и заканчивается действиями.
Паркс : кажется, что теперь вы различаете мысль, которая, по вашему мнению, просто сливается с тем объектом, о котором предположительно идет речь, а затем эту деятельность — большинство людей могло бы назвать ее «умственной деятельностью», которая позволяет мы перескакиваем от одной мысли (одного объекта, как вы его видите) к другому, соединяя их вместе.Здесь мне нужна некоторая ясность.
Манзотти : Понятие «мысли» имеет во многом ту же функцию, что и понятие «светоносный эфир» в девятнадцатом веке. Ученые не могли понять, как свет может перемещаться, поэтому они изобрели эту загадочную среду, которая каким-то образом распространяла свет. Но как свету не нужен эфир для перемещения, так и объектам не нужны мысли для причинного воздействия на наши тела. Когда я говорю: «Я думаю о x », это просто способ объяснить, что x оказывает влияние на мое тело.
Parks: Но мысли отличаются от непосредственного восприятия мира. Когда я думаю, скажем, о своей дочери, это совсем не то, что я вижу ее на самом деле или даже мечтаю о ней.
Манзотти : Совершенно верно. Когда вы думаете о ней, объект, идентичный вашему опыту, отличается от объекта, который вы видите, когда она присутствует физически. Точно так же, как протянуть руку, чтобы коснуться чего-то внутри ящика, а затем заглянуть в ящик, можно найти разные объекты восприятия — помните, объект является относительным к способностям восприятия, а не абсолютным.Итак, вы можете думать о мысли как о другой форме восприятия, которая позволяет другому объекту влиять на ваше тело. То, как осязание, зрение и слух позволяют различным объектам влиять на нас.
Паркс : Насколько я помню, буддисты верят, что у нас есть шесть чувств, шестым из которых является ум, а мысли — это то, что воспринимает ум.
Манзотти : Боюсь, я очень мало знаю буддийские идеи, но да, можно сказать, что мы говорим о другой группе объектов восприятия.Например, когда я вижу яблоко, легко определить внешний объект, влияющий на мое тело, точно так же, как когда я что-то слышу или касаюсь. Но как насчет тех ситуаций, когда то, что действует на меня, мой опыт, представляет собой комбинацию различных объектов, разделенных в пространстве и даже во времени?
Парки : Например?
Манзотти : Созвездие звезд воспринимается как единая форма, несмотря на расстояния между отдельными объектами и тот факт, что они находятся только в этом очевидном пространственном соотношении благодаря разному времени, пройденному, чтобы добраться до нас.Однако каждая звезда существует во времени и пространстве. Проще говоря, объекты позади и отраженные в витрине магазина действуют вместе, образуя единый объект восприятия. Или, опять же, мелодия, разнесенная по времени, объединяется в единое целое.
Так почему мы должны ограничивать этот процесс? Что, если бы причины действий, поведения были бы обширным набором внешних причин, происходящих от внешних объектов или даже отношений между ними? Это тот случай, когда я реагирую не потому, что есть две конкретные вещи, а потому, что отношение между этими вещами действует как новый объект.Вы в долгой прогулке, на вас только футболка, в небе появляется тучи. Отношения между этими вещами представляют собой новый объект: страх замерзнуть и намокнуть. Конечно, нелегко приписать подобные отношения физические свойства, но при правильной физической системе это отношение, тем не менее, может оказывать влияние.
Парки : Правильная физическая система?
Манзотти : Человеческое тело с его необычным мозгом.Помимо так называемой ранней сенсорной коры, существует множество областей коры, функции которых остаются неясными. Скорее всего, они позволяют внешнему миру объединяться новыми способами, соответствующими сложным внешним объектам. Вы можете представить мозг как огромный глаз, который, реорганизуя свою нервную структуру, способен воспринимать все виды сложных объектов в пространстве и времени.
Парки : И вы говорите, что все эти соединения — это то, что мы называем мышлением.
Манзотти : Если сильно надавить, я бы сказал, что внешние объекты — это мысли и их перемешивание над мышлением.Но я бы предпочел не использовать эти слова, потому что я пытаюсь описать происходящее без привлечения фиктивных ментальных сущностей. Скажем так, кора головного мозга человека с миллиардами нейронов имеет триллионы «ворот», каждый из которых причинно связан с внешним миром. Эти врата продолжают реорганизовывать свои пути, так что объекты, влияющие на наше тело и поведение, становятся теми, которые лучше всего соответствуют нашим потребностям.
Обучение — это процесс добавления и соединения таких объектов — объектов, которые действительно существуют, а не в уме.Внутренняя активность мозга позволяет объектам, которые являются нами — а мы не наш мозг, помните, мы — наш опыт — быть более сложными, чем те, которые выделяются непосредственными чувствами. Тело улавливает отдельные ноты, исполненные на фортепиано, мозг позволяет сонате воздействовать на нас как на единый объект, которым она и является по отношению к нашему мозгу. В общем, объекты, которые в противном случае были бы отдельными — что-то визуальное, что-то осязаемое, что-то слуховое — становятся единым целым и воздействуют на тело как единый объект, например, хрустящий шоколадный батончик.Потому что по отношению к нашему телу они представляют собой единый объект.
Паркс : И, по-видимому, у этого постоянного микширования и ремикширования мира есть цель.
Манзотти : Конечно. Чтобы вести себя более успешным или подходящим образом. Это полностью соответствует эволюционному взгляду на мозг.
Паркс : Итак, то, что мы называем мышлением, — это практическая деятельность, перемешивание причинных путей, перетасовка мира, установление причинных связей между миром и нашими действиями.В то время как прямое восприятие — зрение, слух, прикосновение — неизбежно. Это просто наш опыт.
Манзотти : В прошлом философы обычно считали мышление высшим когнитивным навыком, способным проникнуть в суть реальности. Таким образом, мышление ассоциировалось с истиной, в то время как индивидуальный опыт был назван субъективным и сведен к простому видению. На самом деле все обстоит наоборот. Это наш непосредственный индивидуальный опыт, который безошибочно верен; будучи единым целым с внешним миром, он не может ошибаться.
С другой стороны, то, что мы называем мышлением, — это способ, которым мир и наше поведение сочетаются друг с другом, и поэтому он может слишком легко ошибаться. Например, я могу подумать , что гриб, который я собрал в лесу, съедобен, но когда я ем его, я отравляюсь и умираю. Это была ошибка не в моем визуальном или тактильном восприятии гриба, которое просто было тем, чем он должен был быть, а скорее в сочетании того, что я видел, и того, что я делал.
Parks : Я не могу избавиться от ощущения, что мы сейчас говорим о мышлении как о происходящем в голове.Как будто есть переживание гриба снаружи и мышление внутри.
Манзотти : Конечно, в мозгу всегда много чего происходит, но мысли остаются внешними объектами, переживаниями, которые существуют по отношению к нашему телу, частью которого является мозг. Мысли — это просто более сложные объекты, созданные путем объединения нескольких объектов вместе. В данном случае у нас есть гриб, который является довольно простым, ближайшим объектом, аппетит тела, который является свойством тела, сам по себе является объектом, прошлые случаи употребления грибов в пищу, снова события, очевидно связанные с объектами и способные к все еще действует на тело.Они объединяются в единый объект, который мы называем желанием съесть упомянутый, увы, ядовитый гриб.
Парки : А как насчет творческого мышления?
Манзотти : Большая часть того, что происходит в нашем мозгу, и связи, которые он постоянно вызывает, происходит бессознательно. Итак, творческие люди думают по большей части, когда занимаются другими делами или даже во время сна. Существует множество анекдотических свидетельств того, что мозг находит решения, а мы об этом не подозреваем.«Мысль приходит тогда, когда« она »хочет», — говорит Ницше, а не тогда, когда «я» желаю. Итак, мышление — это процесс физической реконфигурации причинных путей, сложная форма восприятия. Использование слова «психический» в противопоставлении «физическому», чтобы придать этому процессу особый статус, только сбивает с толку.
Паркс : Значит, в творчестве нет больших достоинств.
Манзотти : Творчество высоко ценится, потому что оно допускает появление всех видов новизны, но не обязательно требует ни сознательного опыта, ни даже разума.В конце концов, естественный отбор создал миллионы невероятно сложных структур. Тем не менее, универсального разума не существует, просто бесконечная перестановка оснований ДНК, выделенных в результате практических действий. Мышление то же самое.
Парки : Однако очень часто мы действительно осознаем, что думаем, слышим голос, болтающий в нашей голове. В частности, когда я пишу, я осознаю моменты прорыва, моменты, когда я, возможно, пришел к какому-то новому синтезу. Это все очень сознательно.Иногда до боли. Как это вписывается?
Манзотти : «Голос», — говорите вы. Мы вернулись к языку. Очевидно, что есть мысли, которые могут прийти только на словах. Например, формулировка «мысли — это воображаемые сущности» является полностью вербальной конструкцией. Он даже включает понятие чего-то, что по определению не может быть объектом в мире: воображаемой сущности.
Парки : Итак? Как эта мысль может быть результатом объекта в мире? Если вы не хотите сказать, что предметом являются язык или слова.Но где же тогда эти слова? Поскольку вы любите говорить, что все является физическим и, следовательно, все где-то находится, вам придется сообщить нам, где находятся эти слова. И где собственно, как не в голове?
Манзотти : Ха. Обо всем этом и многом другом я расскажу в нашем следующем, предпоследнем разговоре. Язык — слишком большая тема, чтобы говорить о ней в последнем абзаце. Однако позвольте мне оставить вас и процитирую Э. Если мы поймем, что он имел в виду, я думаю, у нас есть начало ответа на ваш вопрос.
мысленных экспериментов: история и применение в образовании
Rowman & Littlefield Publishers
Страниц: 126 • Отделка: 6 x 9
978-1-4758-6074-0 • Твердый переплет • Апрель 2021 г. • 50,00 долларов США • (38,00 фунтов стерлингов)
978-1-4758-6075-7 • Мягкая обложка • Апрель 2021 г. • 25,00 долларов США • (18,95 фунтов стерлингов)
978-1-4758-6076-4 • электронная книга • апрель 2021 г. • 23 доллара.50 • (17,95 фунтов стерлингов)
Крис Эдвардс, редактор D, является автором множества книг с Роуманом и Литтлфилдом, представил свой оригинальный метод обучения соединению точек через Национальный совет социальных исследований и является частым автором журнала Skeptic. Он преподает всемирную историю AP и курс английского языка по критическому мышлению в государственной средней школе на Среднем Западе.
Введение
Глава первая.Известные мысленные эксперименты
Глава вторая. Путешествие во времени
Глава третья. Математика, бесконечность и большой взрыв
Глава четвертая. Политика
Глава пятая. Риск, шансы, храбрость и этика
Глава шестая. Идентификационный номер
Глава седьмая. Этика
Глава 8. Мета-математика и метаязык
Заключение
Ссылки
В истории и философии науки одним из самых недооцененных аспектов научного метода является мысленный эксперимент.Его почти никто не изучает, и все же все ученые проводят мысленные эксперименты, даже когда не осознают, что делают.