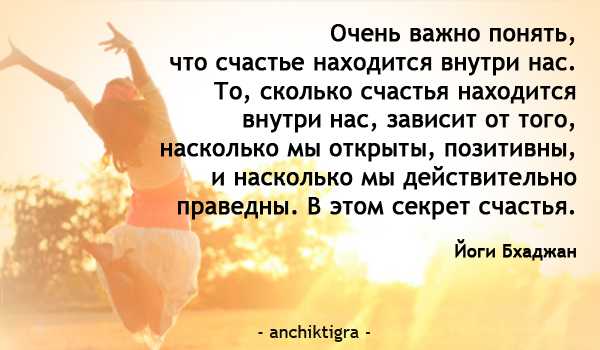представления античных и восточных философов о хорошей жизни / Лента / Альпина нон-фикшн
Для буддиста счастье — отсутствие страданий
В буддизме нет понятия счастья как такового; скорее, для последователей этого учения стремление достичь счастья пагубно, так как представляет собой потакание своему эго. Однако это не означает, что буддисты лишены внутреннего удовлетворения и покоя, просто это состояние достигается другим путем.
Главная цель любого буддиста — уменьшение своих и чужих страданий. Источником страданий являются наши желания, волнения и привязанности. Избавившись от них, вытеснив беспокойство состраданием, страсть любовью, а неудовлетворенность — добротой и уравновешенностью, мы сможем избавиться от страданий и прийти к состоянию нирваны, то есть полного покоя и умиротворения.
Для конфуцианца счастье — человеколюбие
Для последователей Конфуция центральным является понятие жэнь, оно представляет собой главную добродетель — человеколюбие. Соответственно, для любого конфуцианца быть добродетельным означает проявлять любовь к людям. Парадигма взаимоотношений, основанных на любви, берет начало из идеальной семьи, где родители воспитывают и наставляют детей, а братья и сестры заботятся друг о друге.
Соответственно, для любого конфуцианца быть добродетельным означает проявлять любовь к людям. Парадигма взаимоотношений, основанных на любви, берет начало из идеальной семьи, где родители воспитывают и наставляют детей, а братья и сестры заботятся друг о друге.
Согласно этому учению, мы живем в одном мире, где все люди тесно взаимосвязаны; нас могут объединять семья, работа, место жизни, язык или культура. В отрыве от этих взаимоотношений «нас» не существует, а значит, наше благополучие зависит от вклада в эти отношения. Таким образом, счастье каждого человека невозможно без любви к другим.
Для даоса счастье — согласие с естественным ходом вещей
Один из главных вопросов, которыми задаются приверженцы учения Лао-цзы и Джуан-цзы — как справляться с неопределенностью. Современные люди привыкли по возможности избегать ее и стремиться к постоянству. Любой же последователь дао знает, что неопределенность — неотъемлемое свойство нашей жизни; мы не в силах контролировать действия других людей, природу и другие внешние обстоятельства, а потому единственное верное решение — принять естественный ход вещей и научиться пребывать в нем.
Подобная позиция не означает бездействие или отказ от принятия решений. Скорее, даосизм учит действовать своевременно, в соответствии со спонтанностью и естественностью. Научившись этому, мы сможем откликаться миру, будучи с миром заодно, и так достигать внутренней гармонии и счастья.
Для аристотелиста счастье — процветание и самореализация
Аристотель учил, что наша жизнь заслуживает того, чтобы быть прожитой, когда мы «процветаем»: занимаемся делом, которое способствует нашему преуспеванию, приносит нам удовольствие и чувство гордости, а также вызывает уважение у других людей.
Учение античного философа также говорит о нашей зависимости от внешних факторов: врожденных способностей, благосостояния, окружения и везения. Из этого не следует, что для процветания необходимо с рождения быть миллионером и не знать неудач. Согласно взглядам Аристотеля, счастье зависит как от наших стараний, так и от везения.
Для стоика счастье — быть добродетельным
В основе стоицизма лежит идея, что в жизни важнее всего быть порядочным человеком. Это достигается постоянной практикой четырех главных добродетелей: практической мудрости, мужества, справедливости и умеренности.
Это достигается постоянной практикой четырех главных добродетелей: практической мудрости, мужества, справедливости и умеренности.
Для любого стоика также важная идея дихотомии контроля — понимание, что есть вещи, которые от нас зависят, и те, на которые мы повлиять не в силах. Так, что бы ни случилось с нами (как мы уже знаем, значимая часть нашей жизни зависит от других), мы всегда в силах отвечать за свои суждения, решения и реакции. В любой ситуации мы способны оставаться добродетельными, и уже это достойно и способно обеспечить нам хорошую и спокойную — то есть счастливую — жизнь.
Для эпикурейца счастье — гармония духа с чувственностью
Доктрина эпикуреизма состоит из канона, физики и этики. Физика объясняет устройство этого мира, этика — как в нем правильно жить, а канон — как познавать природу, как она проявляет себя, и как мы ее воспринимаем.
Для эпикурейцев единственно верный способ познания мира и соприкосновения с ним — наши органы чувств, способность испытывать удовольствие и отвращение.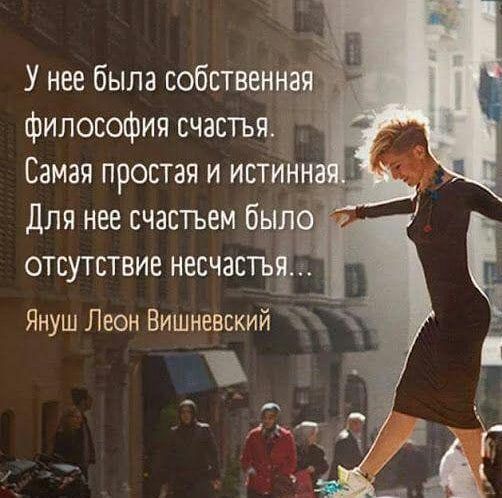 Разум лишь обрабатывает полученную информацию и не может достоверно описывать действительность. Так, наша чувственность позволяет нам не только познавать реальность, но и получать от этого удовольствие.
Разум лишь обрабатывает полученную информацию и не может достоверно описывать действительность. Так, наша чувственность позволяет нам не только познавать реальность, но и получать от этого удовольствие.
Счастье по Аристотелю — Почитать на DTF
«Что такое счастье?», — британский профессор по античной литературе Эдит Холл предлагает поискать ответ на этот вопрос в книге «Счастье по Аристотелю», где рассматривает этику одного из самых значимых философов Античности на современный лад.
10 093 просмотров
Аристотель wikipedia.org
Почему эта книга?
Я познакомился с этой книгой в рамках предварительного ознакомления с этикой Аристотеля. Для меня важен процесс самопознания и мне интересна философия, но познания мои обрывочны и до Аристотеля не доходили. Поэтому, чтобы подготовиться к изучению его этики воспользовался таким источником.
К удивлению, его философия вполне может стать ориентиром в принятии решений сегодня.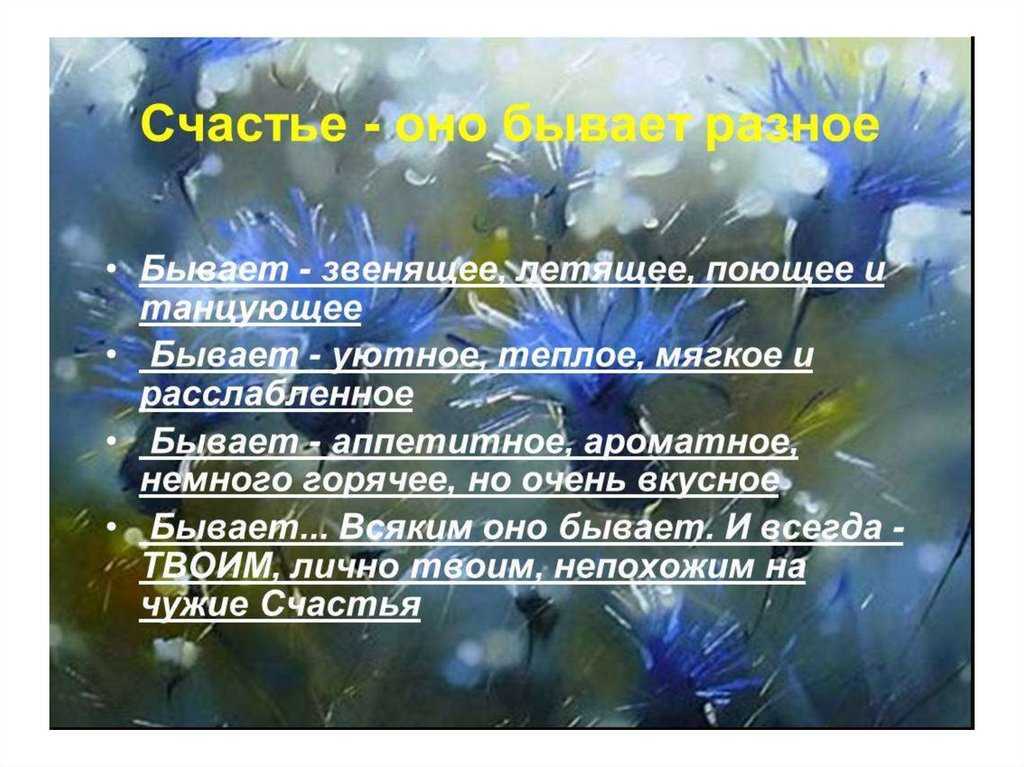 Авторша подробно рассматривает сочинения Аристотеля и формирует общее представление об этике и взглядах философа на жизнь. Ниже краткий пересказ идей затрагиваемых здесь.
Авторша подробно рассматривает сочинения Аристотеля и формирует общее представление об этике и взглядах философа на жизнь. Ниже краткий пересказ идей затрагиваемых здесь.
Краткий пересказ
Счастье по Аристотелю заключается в раскрытии потенциала, заложенного внутри человека, при стремлении к совершенству, насколько позволяют обстоятельства. Счастье — привычка поступать правильно, руководствуясь добродетелями: благодеянием, совестью и самодисциплиной. Это внутреннее стремление к моральному и нравственному эталону.
Единственный способ достичь этой привычки делать добро и руководствоваться в принятии решений человеческой природой — т.е быть разумным.
Для достижения счастья человеку нужно принять решение следовать добродетелям. Это его личная ответственность. Активная, деятельная позиция по отношению к своей жизни — ключ к тому, чтобы руководствоваться ими.
Разумный человек имеет все шансы прожить достойную жизнь. Он поступает по совести со своим окружением, способен на самостоятельные суждения, умеет созерцать.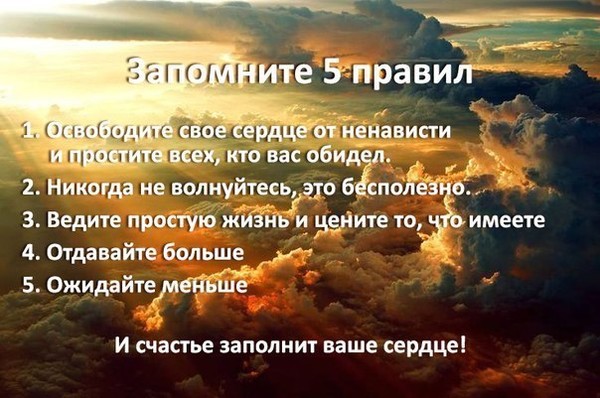
Все в этом мире имеет 4 составляющих: форму — первопричину — материал — смысл. Человек, способен определить для себя смысл своего существования. Удовольствие от деятельности — ориентир в этом. Для раскрытия своего потенциала в деятельности, которая приносит нам удовольствие, может потребоваться много времени. Нам следует постоянно искать среду, которая поможет раскрыть свои задатки и взаимодействовать с ней.
Каждый день мы принимаем решения разной важности, поэтому умение «рассуждать грамотно» — необходимое качество современного человека. Не менее важно уметь прислушиваться к другим и оглядываться на чужой опыт. Это такой же навык, который мы можем развивать. Некоторые, не обучаясь специально, рассуждают таким образом, поэтому нам стоит компенсировать свое неумение целенаправленной работой.
Нужно принимать во внимание среду в которой ты оказался и учится предвидеть разные возможные исходы, чтобы подготовиться к последствиям. Бездействие — тоже имеет последствия, но бездействие не требует усилий, поэтому присуще людям слабым морально.
Риторика — инструмент, которым пользуется каждый человек. Стоит хотя бы ознакомиться с ее основами для того, чтобы уметь воздействовать на аудиторию. Склонять к нужному решению, производить впечатление, одерживать победы в спорах и диспутах. Частью риторики являются принципы: краткости, нацеленности на аудиторию и четкости. Подача материала изменилась не так сильно, как кажется, и спустя тысячелетия можно почерпнуть в «Риторике» и «Поэтике» важное для себя.
Одна из сторон нашей личности — пороки. В умеренных проявлениях они не сильно портят наши взаимоотношения с окружающими и собой. Но крайние проявления их требуют коррекции, хотя бы до состояния умеренности, поэтому стоит уделить внимание самопознанию и трезво посмотреть на себя. Добрые качества в крайней форме тоже носят негативный оттенок, поэтому их проявления тоже необходимо уравновесить.
Добрые качества в крайней форме тоже носят негативный оттенок, поэтому их проявления тоже необходимо уравновесить.
Нас оценивают по тому, что мы сделали. Не сделанное людей не интересует. Поэтому в этике Аристотеля уделяется большое внимание принятию правильных справедливых решений. Стоит быть честным и не хвастливым — лучше придерживаться умеренной скромности. Нельзя оставаться в стороне, когда видишь несправедливость.
Личные отношения с людьми — важная часть жизни. Разные формы союзов, которые мы образуем с людьми оказывают влияние на наше счастье. Поэтому нам стоит разобрать как и с кем мы взаимодействуем. С кем-то мы близки, с кем-то дружим ради выгоды или удовольствия — выстраивание отношений ценно временем, которое мы вложили в них. Ничего плохо в том, чтобы не испытывать чувства родства к кровным родственникам.
Мы формируем общество. Аристотель рассматривает разные виды политических устройств, которые существуют до сих пор. Каждый из них имеет свои минусы. Правильное общество: небольшое, основано на принципе «гражданского согласия». Бедность приводит к имущественному расслоению и разногласиям на этой почве, поэтому с ней следует бороться.
Бедность приводит к имущественному расслоению и разногласиям на этой почве, поэтому с ней следует бороться.
Человека характеризует его досуг. Если мы формируем общество, то правильно выстроенный досуг формирует нас. Нужно стремиться к тому, чтобы наполнять свою жизнь тем, что развивает нас. Следует изучать искусства, потому что они способны углублять наши нравственные взгляды.
Все живые существа смертны, поэтому нужно научиться принимать смерть и готовится к ней. Неизбежная конечность нашего бытия способна подтолкнуть нас к принятию решений и реализации жизненных проектов. Бог в этике Аристотеля существует в самопознании и не заинтересован в делах людей, он первоначальный импульс, но не наблюдатель. В жизни есть только один неизменный процесс — бесконечный цикл воспроизводства. Жизнь сменяет жизнь, жизнь порождает идеи, которые переживают своих создателей.
Резюмируем
В этой книге дан по сути общий взгляд на идеи философа. Я буду углублять свое знакомство с ними дальше. Однако, мысль о том, чтобы внедрять в свою жизнь следование добродетелям посещала меня неоднократно в процессе прочтения. Глава, посвященная принципу середины, побудила взглянуть на себя и оценить какие качества я вижу у себя и как их следует развивать или сдерживать.
Однако, мысль о том, чтобы внедрять в свою жизнь следование добродетелям посещала меня неоднократно в процессе прочтения. Глава, посвященная принципу середины, побудила взглянуть на себя и оценить какие качества я вижу у себя и как их следует развивать или сдерживать.
Будь здоров!
Культурно-исторический блог
Чарли Роден прошла модуль «Философская Британия» в Queen Mary в 2016 году. В этом посте она пишет о «счастье» как философском ключевом слове с помощью Чарли Брауна.
Выдержка из комикса «Арахис». Изображение с http://www.philipchircop.com/post/15448312238/incidentally-what-is-happiness-do-whatever
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «счастье» определяется как «состояние быть счастливым», то есть «чувство или демонстрация удовольствия или удовлетворения». Однако, поскольку счастье настолько субъективно, каждый интерпретирует его по-разному.
Многие люди считают, что обретают счастье, когда едят любимую еду, покупают новую одежду или зарабатывают много денег. Хотя все это переживания, которыми можно наслаждаться, на самом деле они не приносят счастья — они приносят нам только удовольствие. Конечно, официальное определение «счастья» включает в себя удовольствие, однако я согласен с Happiness International, которые предполагают, что удовольствие недолговечно и мотивировано извне. Если счастье зависит от удовольствий, подобных только что упомянутым, означает ли это, что без большого количества денег или материальных вещей люди несчастны?
Хотя все это переживания, которыми можно наслаждаться, на самом деле они не приносят счастья — они приносят нам только удовольствие. Конечно, официальное определение «счастья» включает в себя удовольствие, однако я согласен с Happiness International, которые предполагают, что удовольствие недолговечно и мотивировано извне. Если счастье зависит от удовольствий, подобных только что упомянутым, означает ли это, что без большого количества денег или материальных вещей люди несчастны?
Я не верю, что кто-либо может точно определить «счастье», и, глядя на историю этого слова, мы можем увидеть, как его культурные и философские значения менялись с течением времени, демонстрируя, что счастье нельзя просто понимать как отдельное понятие. .
«Счастье» происходит от слова «hap» конца четырнадцатого века, означающего «удача» или «случайность». [2] Это говорит о том, что в Средние века считалось, что человек счастлив, если ему повезло. Мы уже можем видеть, как современный взгляд на «счастье» отличается от этой идеи, поскольку, хотя удача может способствовать счастью, мы часто можем чувствовать себя счастливыми, не будучи удачливыми.
Единственный предшественник идеи «счастья» был предложен Аристотелем (384-322 до н.э.). В своей « Никомаховой этике» Аристотель подчеркивал, что конечной целью жизни является «эвдемония», древнегреческий термин, обычно переводимый как «счастье» или «человеческий рост». Аристотель утверждал, что эвдемония — это раскрытие вашего полного потенциала и процветание как личности. Для этого вам нужно жить здоровой и добродетельной жизнью, чтобы достичь лучшей версии себя. [4] Добродетель может быть достигнута с помощью баланса и умеренности, поскольку такой образ жизни ведет к «величайшей долгосрочной ценности», а не просто к кратковременному удовольствию. [5] С точки зрения современности, это была бы разница между зарабатыванием огромных сумм денег, но тратой их сразу, и тратой денег с умом, гарантируя, что они продлятся и обеспечат вам хорошую жизнь. [6]
В эпоху раннего Нового времени значение счастья стало проявляться в политической сфере. [7] В 1726 году шотландский философ Фрэнсис Хатчесон (1694-1746) писал, что
‘наилучшее действие, которое приносит наибольшее счастье наибольшему количеству людей; и то, что наихудшее, что подобным же образом причиняет страдания».
[8]
Этот утилитарный принцип, направленный на достижение наибольшего счастья для наибольшего числа людей, по существу утверждает, что действие является правильным, если оно производит счастье, и неправильным, если оно производит противоположное счастью. [9]
Джереми Бентам, изображение с http://sueyounghistories.com/archives/2010/06/13/jeremy-bentham-1748-%E2%80%93-1832/
Самым известным сторонником утилитаризма был английский философ и юрист Джереми Бентам (1748–1832). Бентам предложил множество социальных и правовых реформ, таких как полное равенство обоих полов, и выдвинул идею о том, что законодательство должно быть основано на морали. [10] Идентификация добра с удовольствием, в его книге 1781 года
‘ Природа отдала человечество под управление двух суверенных владык, боли и удовольствия. Только они должны указывать, что мы должны делать, а также определять, что мы должны делать».
[11]
Утверждая, что счастье можно понимать с точки зрения баланса удовольствия и боли, Бентам разделяет этическое гедонистическое утверждение; представление о том, что ценно только удовольствие, а неудовольствие или боль ничего не стоят. [12]
В 1861 году английский философ и экономист Джон Стюарт Милль (1806–1873) опубликовал одно из своих самых известных эссе, Утилитаризм , которое было написано в поддержку моральных теорий Бентама. Общий аргумент работы Милля предполагал, что мораль создает наилучшее состояние ситуации и что наилучшее положение дел — это то, которое приносит наибольшее количество счастья для большинства людей. Милль также определял счастье как превосходство удовольствия над страданием; однако, в отличие от Бентама, Милль признавал, что удовольствие может различаться по качеству. В то время как Бентам считал простые и чувственные удовольствия, такие как употребление алкоголя или роскошная пища, столь же хорошими, как и сложные и изощренные удовольствия, такие как прослушивание классической музыки или чтение литературных произведений, [13] Милль утверждал, что:
«удовольствиям, которые коренятся в высших способностях человека, следует придавать большее значение, чем низменным удовольствиям».

[14] Версия Милля об удовольствии также восходит к традиции этики добродетели Аристотеля, поскольку он заявил, что добродетельная жизнь должна считаться частью счастья человека. [15]
В конце концов, «счастье», по крайней мере, с политической точки зрения, пустило свои самые глубокие корни в Новом Свете. Томас Джефферсон (1743–1826) утверждал, что:
«Забота о человеческой жизни и счастье, а не их уничтожение, является первой и единственной законной целью хорошего правительства». [16]
Он считал, что хорошее правительство — это то, которое способствует счастью своего народа, защищая его права.
Первая печатная версия Декларации независимости 1776 г., изображение с http://www.loc.gov/exhibits/creating-the-united-states/interactives/declaration-of-independence/pursuit/enlarge5.html
«Жизнь, свобода и стремление к счастью», три «неотъемлемых права» — это фраза, чаще всего цитируемая из Американской декларации независимости 1776 года.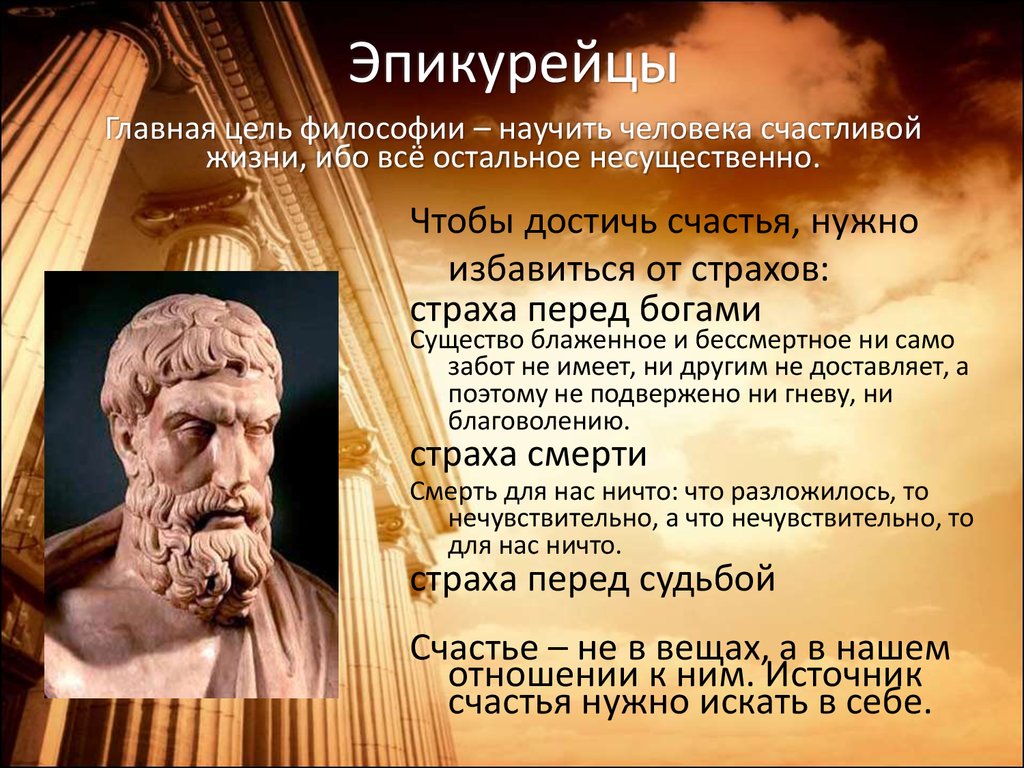 Сегодня американцы переводят «стремление к счастью» как право следовать своим мечтам и гнаться за тем, что делает вас субъективно счастливым. [17] Однако профессор Джеймс Р. Роджерс из Техасского университета A&M утверждает, что счастье в публичном дискурсе конца восемнадцатого века относилось не просто к эмоциональному состоянию. Вместо этого оно означало богатство или благополучие человека. [18] Оно включало право на удовлетворение «физических потребностей», но также включало важный религиозный и моральный аспект. Конституция штата Массачусетс 1780 г. подтвердила, что:
Сегодня американцы переводят «стремление к счастью» как право следовать своим мечтам и гнаться за тем, что делает вас субъективно счастливым. [17] Однако профессор Джеймс Р. Роджерс из Техасского университета A&M утверждает, что счастье в публичном дискурсе конца восемнадцатого века относилось не просто к эмоциональному состоянию. Вместо этого оно означало богатство или благополучие человека. [18] Оно включало право на удовлетворение «физических потребностей», но также включало важный религиозный и моральный аспект. Конституция штата Массачусетс 1780 г. подтвердила, что:
«счастье народа, хороший порядок и сохранение гражданского правления существенно зависели от благочестия, религии и нравственности, и… они не могут распространяться в целом через сообщество, кроме как посредством учреждения публичного поклонения Богу и общественных указаний». в благочестии, религии и нравственности».
Подобные заявления можно найти во многих документах того времени. По существу, «счастье» в Декларации следует понимать как добродетельное счастье, опять же подобное аристотелевской «Эвдемонии». Хотя «стремление к счастью» включает в себя право на материальные вещи, оно выходит за рамки этого и включает моральное состояние человека. [20]
По существу, «счастье» в Декларации следует понимать как добродетельное счастье, опять же подобное аристотелевской «Эвдемонии». Хотя «стремление к счастью» включает в себя право на материальные вещи, оно выходит за рамки этого и включает моральное состояние человека. [20]
После поиска философии счастья в Британии двадцатого века я наткнулся на книгу Бертрана Рассела (1872–1970) «Завоевание счастья» , опубликованную в 1930 году. К моему удивлению, я нашел его взгляды на счастье довольно современными и похожие на представления о счастье, о которых вы можете прочитать в современных книгах по самосовершенствованию. Тем не менее, я нашел его работу вдохновляющей. Рассел написал эту книгу, чтобы «предложить лекарство» от повседневного несчастья, от которого страдает большинство людей в цивилизованных странах. [21]
Ключевая концепция счастья, которую я почерпнул из книги Рассела, заключалась в том, чтобы перестать беспокоиться:
«Когда вы какое-то время упорно смотрите на наихудший вариант и с искренним убеждением говорите себе: «Ну, в конце концов, это не так уж важно», вы обнаружите, что ваше беспокойство уменьшается до совершенно необычайного [22]
Это также означает перестать беспокоиться о том, что другие люди думают о вас, поскольку большинство людей не будут думать о вас так много, как думаете вы [23], по сути говоря, что люди переоценивают негативные чувства других людей к ним.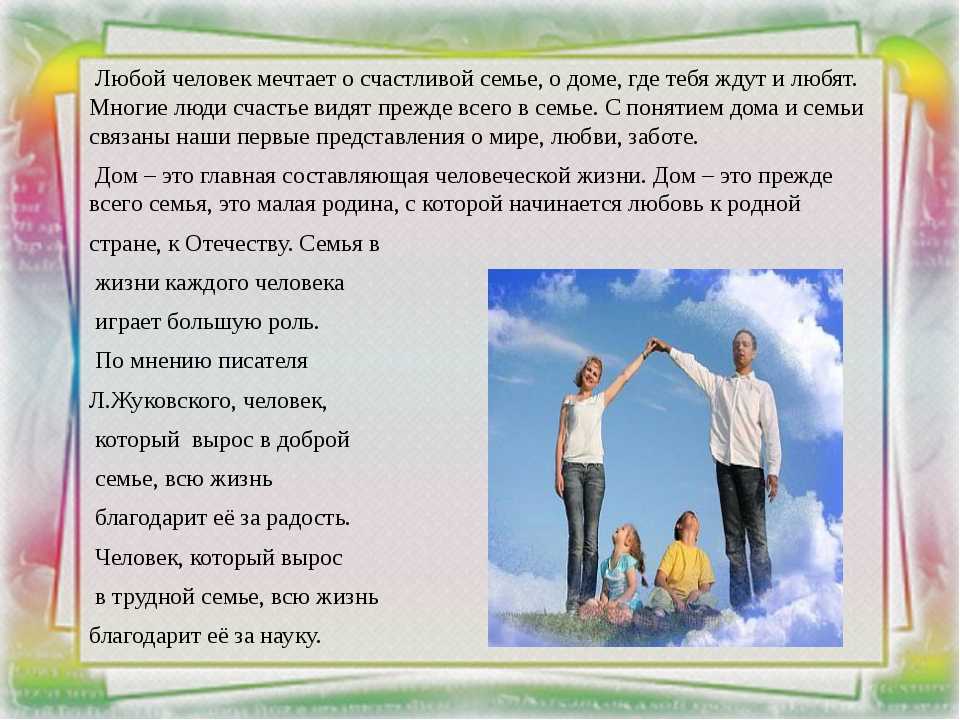
Каждый год издается около двух тысяч книг по самопомощи, и можно утверждать, что счастье важнее для современного общества, чем когда-либо в истории. [24]
Однако, помимо стремления к счастью, в настоящее время большое внимание уделяется уменьшению симптомов, мешающих счастью, таких как тревога и депрессия. По данным Huffington Post, около 350 000 000 человек во всем мире страдают от той или иной формы депрессии. Эта грабительская статистика привела к созданию таких организаций, как Action For Happiness, целью которых является уменьшение страданий в жизни людей и поощрение людей создавать больше счастья и меньше несчастья в мире.
Русский писатель Лев Толстой (1838-1910) однажды сказал:
«Хочешь быть счастливым — будь». [25]
Идея о том, что мы можем просто решить быть счастливыми, независимо от определенных аспектов нашей жизни, которые мы хотим изменить, также широко распространена сегодня. Эту идею продвигает самая продаваемая песня 2014 года Фаррелла Уильямса Happy :
.‘Потому что я счастлив, хлопайте в ладоши, если вы чувствуете себя как комната без крыши.’ [26]
Когда Уильямс спросили, что означают эти слова, он ответил, что счастье не имеет границ и может быть достигнуто каждым.
Ответ Фаррелла Уильямса. Изображение с https://twitter.com/Pharrell/status/431011318737698816?ref_src=twsrc%5Etfw
Наконец, идея о том, что каждый может достичь счастья, обсуждалась Сэмом Бернсом. Бернс страдал от прогерии и помог повысить осведомленность об этой болезни. Он умер через год после появления в видео TEDx Talks под названием «Моя философия счастливой жизни» в возрасте семнадцати лет в 2014 году. В этом вдохновляющем видео Бернс делится своими четырьмя ключевыми концепциями, которые помогают ему вести счастливую жизнь.
1) Преодолейте препятствия, мешающие счастью.
2) Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вы не можете сделать, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать.
3) Окружите себя людьми, которые привносят в вашу жизнь положительную энергию.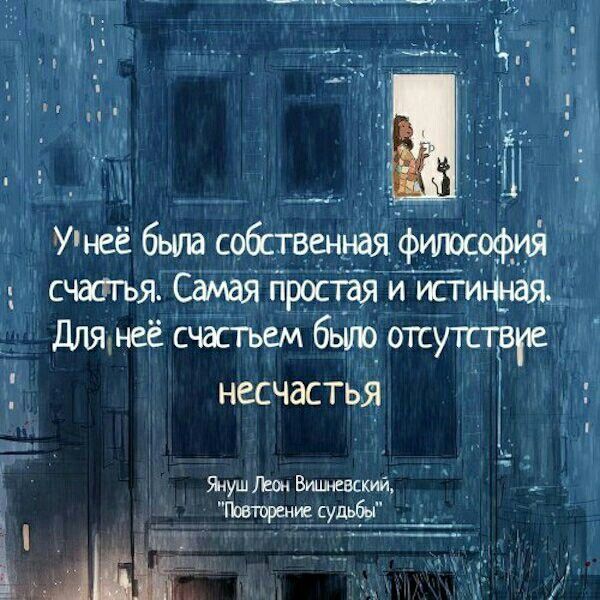
4) Не тратьте энергию на то, чтобы чувствовать себя плохо.
В целом, похоже, что не существует такого понятия, как «счастье».От классической древности до наших дней представление о том, что означает счастье в культурном и философском плане, развивалось и, скорее всего, будет продолжаться. измениться в будущем.
Читать далее →
Эта запись была опубликована в разделе Философские ключевые слова и отмечена америкой, Аристотелем, Бертраном Расселом, британией, декларацией независимости, депрессией, эмоциями, этикой, счастьем, Джереми Бентамом, моралью, арахисом, фарреллом уильямсом, философией, психологией Томас Диксон. Этот пост Томаса Диксона является первым в серии «Философские ключевые слова», в которой исследуется изменение исторического использования, значений и влияния философских терминов, получивших более широкий культурный резонанс.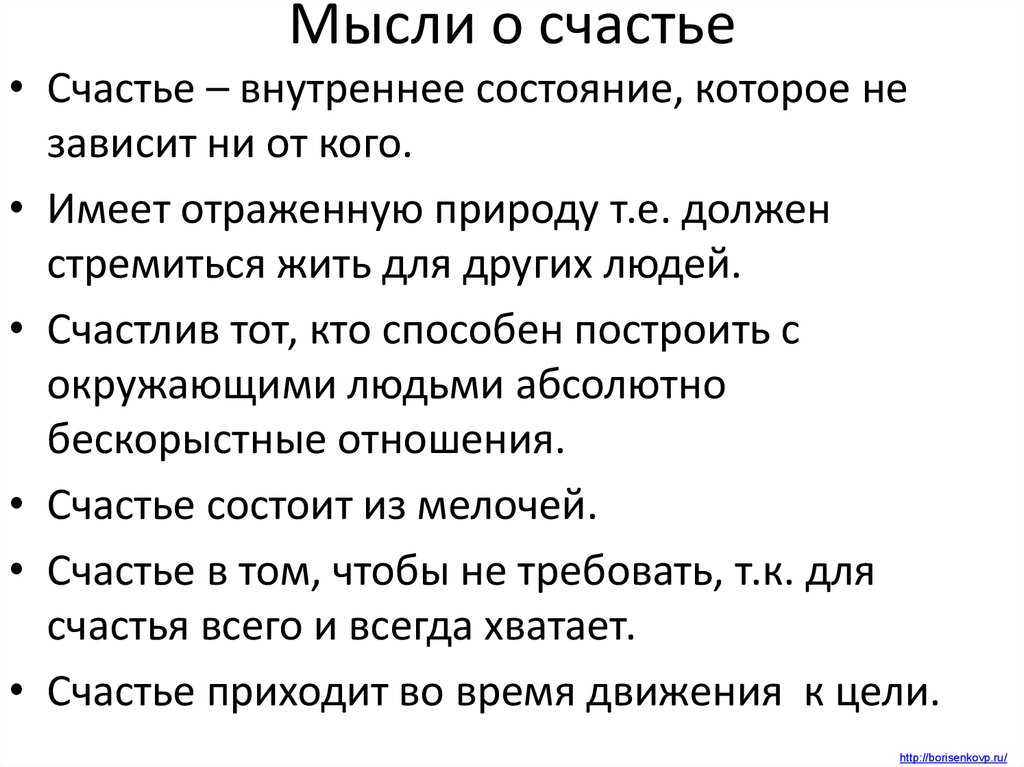
Пару лет назад, путешествуя по Центральной линии до Майл-Энд в лондонском метро, я начал замечать ряд плакатов и изображений, подобных приведенному ниже, — используя знакомые образы карты лондонского метро, чтобы предложить маршруты. между людьми — теперь красная линия соединяла не Ливерпуль-стрит с Банком, а «я» с «другим».
«Близкое чувство» Copyright © Michael Landy 2011
Это показалось мне интересным выражением философии альтруизма — идеи о том, что сущность нравственной добродетели — это преданность не себе (эгоизм), а другим (альтруизм). Термин «альтруизм» в конечном счете происходит от латинского слова alter , что означает «другое». Заинтригованный произведениями искусства на тюбике, я поискал в Интернете, чтобы узнать о них больше. Оказалось, что они были частью проекта под названием Acts of Kindness художника Майкла Лэнди, который сказал о проекте: «Я хочу узнать, что делает нас людьми и что нас связывает помимо материальных вещей».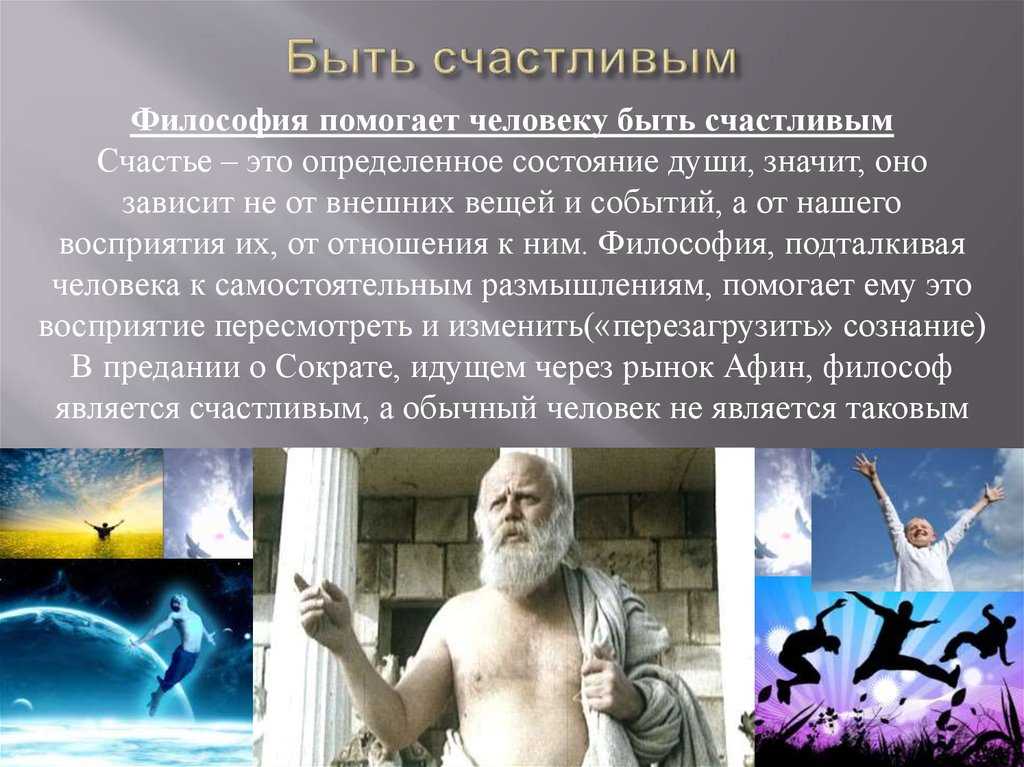 Для меня ответ — сострадание и доброта».
Для меня ответ — сострадание и доброта».
В настоящее время существует движение за доброту, последователи которого по всему миру прославляют ценность того, что иногда называют «случайными актами доброты» по отношению к другим — часто незнакомцам. Такие действия также рекомендуются сторонниками «позитивной психологии», такими как британская организация Action for Happiness. Движения за доброту и счастье — это совсем недавнее явление, и они, как правило, рекомендуют альтруизм — делать добро другим — на явно парадоксальном основании, что это полезно для нашего собственного психического здоровья. Однако идеал альтруизма, к которому апеллируют эти движения, имеет долгую и довольно удивительную историю.
«Альтруизм» вошел в английский язык в 1852 году. До этого были всевозможные моральные добродетели, философские измы, благотворительные намерения и, возможно, даже случайные акты доброты, но не «альтруизм». Всего за год до этого термин был придуман во французском языке — alruisme — новаторским философом и социологом Огюстом Контом (1798–1857) в его книге System of Positive Polity (1851–1854).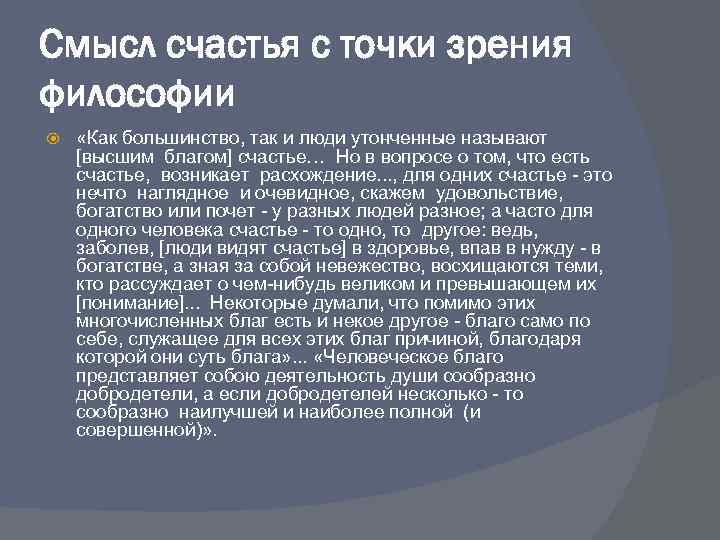 Альтруизм — так Конт назвал социальные инстинкты, относящиеся к другим, и физически расположил их ближе к передней части человеческого мозга. «Альтруизм» был ключевым словом не только в спекулятивной ранней науке о мозге Конта, но и в атеистической религии, которую он основал, с ним самим в качестве ее Первосвященника — Религии Человечества, — которая была задумана как замена католицизму со своими собственными календарь светских святых и праздников и гуманистические гимны. Главной целью Религии Человечества, наряду с предусмотренной Контом реорганизацией общества (всем должны были управлять главным образом банкиры и ученые), было подчинение эгоизма его новому идеалу «альтруизма» во всем цивилизованном мире.
Альтруизм — так Конт назвал социальные инстинкты, относящиеся к другим, и физически расположил их ближе к передней части человеческого мозга. «Альтруизм» был ключевым словом не только в спекулятивной ранней науке о мозге Конта, но и в атеистической религии, которую он основал, с ним самим в качестве ее Первосвященника — Религии Человечества, — которая была задумана как замена католицизму со своими собственными календарь светских святых и праздников и гуманистические гимны. Главной целью Религии Человечества, наряду с предусмотренной Контом реорганизацией общества (всем должны были управлять главным образом банкиры и ученые), было подчинение эгоизма его новому идеалу «альтруизма» во всем цивилизованном мире.
Галерея некоторых светских святых, в том числе деятелей искусства, науки и политики, а также фигура, олицетворяющая веру Конта в моральное превосходство женщин, в Часовне человечества Конта в Париже. Изображение предоставлено J.P. Dalbéra WikiCommons/FlickR.
В течение десятилетий после его чеканки «альтруизм» действительно стал популярным. Впервые он стал модным термином среди научных атеистов, сочувствующих контовской «религии человечества». Позже британские филантропы и социалисты разного толка сочли это удобным термином для выражения своей преданности всем классам общества и даже всему человеческому роду.[1] Священнослужители сначала сопротивлялись этому слову как ненужному научному неологизму — кто-то уместно спросил, действительно ли оно «слаще или лучше слова, чем благотворительность», — но в конце концов оно было даже присвоено христианами, в первую очередь шотландским евангелистом Генри Драммондом в 189 г.0s, как не что иное, как синоним христианской любви.[2] Сегодня «альтруизм» — современное философское ключевое слово, имеющее довольно широкое распространение, и оно все еще сохраняет привкус своего научного и гуманистического происхождения: оно используется и как технический термин в эволюционной биологии, и как одобряющий термин в этих системах светской мысли. для которого преданность своим собратьям или человечеству в целом является основой этики.
Впервые он стал модным термином среди научных атеистов, сочувствующих контовской «религии человечества». Позже британские филантропы и социалисты разного толка сочли это удобным термином для выражения своей преданности всем классам общества и даже всему человеческому роду.[1] Священнослужители сначала сопротивлялись этому слову как ненужному научному неологизму — кто-то уместно спросил, действительно ли оно «слаще или лучше слова, чем благотворительность», — но в конце концов оно было даже присвоено христианами, в первую очередь шотландским евангелистом Генри Драммондом в 189 г.0s, как не что иное, как синоним христианской любви.[2] Сегодня «альтруизм» — современное философское ключевое слово, имеющее довольно широкое распространение, и оно все еще сохраняет привкус своего научного и гуманистического происхождения: оно используется и как технический термин в эволюционной биологии, и как одобряющий термин в этих системах светской мысли. для которого преданность своим собратьям или человечеству в целом является основой этики.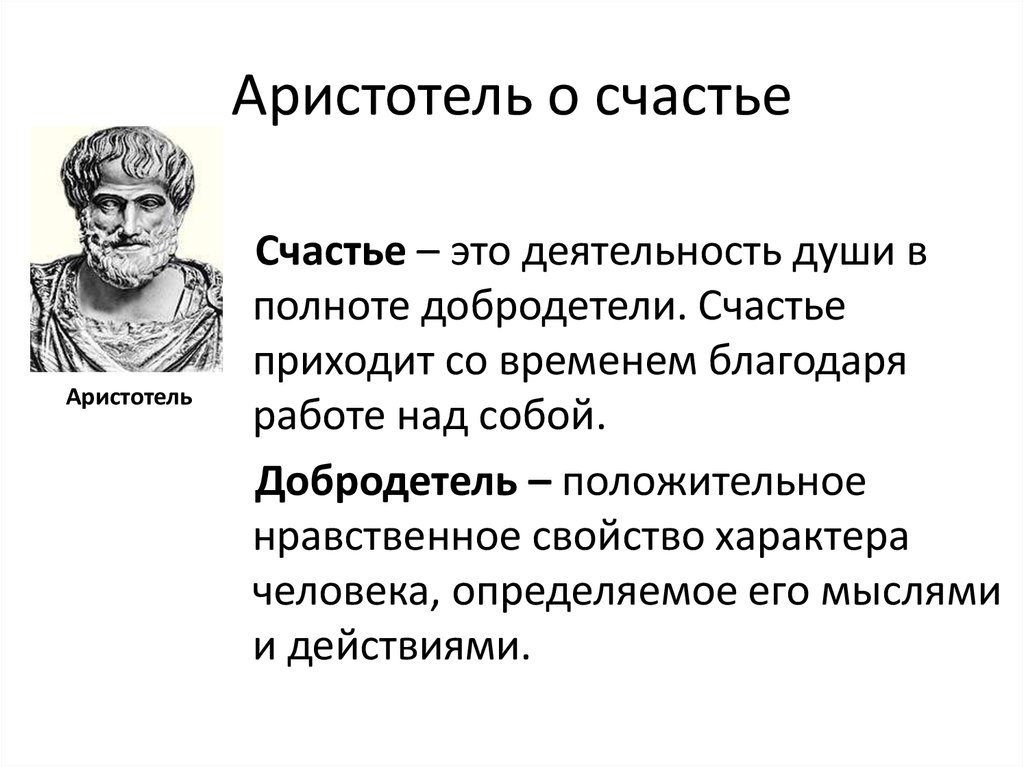
Удивительно, что «альтруизм» Конта оказался таким успешным неологизмом в англоязычном мире. Религия человечества, хотя у нее было несколько последователей в Британии, широко высмеивалась ведущими британскими интеллектуалами, такими как эволюционист Томас Генри Хаксли (1825–189 гг.).5) . Конт был уважаемым историком и философом науки, но по мере того, как его карьера шла своим чередом, он стал одержим не только своей новой религией, но и священной памятью замужней женщины — мадам Клотильды де Во, для которой он стал духовно и нежно предан перед смертью. В британской прессе Конта высмеивали как эксцентричного, эгоистичного, скучного и лишенного чувства юмора человека.
Несколько британцев, посетивших квартиру Огюста Конта в Париже, в том числе философы Александр Бэн и Герберт Спенсер, произвели на этого человека весьма неблагоприятное впечатление. Действительно, британская репутация Конта в его поздние годы некоторым образом предвещает очень негативное восприятие «континентальной» философии в Британии в течение двадцатого века как чего-то чужеродного и опасного. [3] В своей классической работе В «Свободе » (1859 г.) Джон Стюарт Милль описал социальную и религиозную систему, предусмотренную Контом, как «деспотизм общества над личностью, превосходящий все, что предполагалось в политическом идеале самого жесткого приверженца дисциплины среди древних философов». ]
[3] В своей классической работе В «Свободе » (1859 г.) Джон Стюарт Милль описал социальную и религиозную систему, предусмотренную Контом, как «деспотизм общества над личностью, превосходящий все, что предполагалось в политическом идеале самого жесткого приверженца дисциплины среди древних философов». ]
Двумя фигурами, которые, вероятно, оказали наибольшее влияние на распространение использования термина «альтруизм» как в науке, так и в этике в Британии за полтора столетия после смерти Конта, были как популярные писатели, преданные теории эволюции, так и враждебно настроенные писатели. религии: философ Герберт Спенсер (1825–1819 гг.03) и научного атеиста Ричарда Докинза (1941 г.р.).
Герберт Спенсер назван «Философией» в журнале Vanity Fair в 1879 году.
Герберт Спенсер был самым известным философом своего времени. Когда в 1879 году он был изображен карикатурно для журнала Vanity Fair , иллюстрация была озаглавлена просто «Философия». Спенсер был воплощением английского философа середины викторианского периода. Он резко критиковал почти все аспекты мысли Конта, но заимствовал у него термины «социология» и «альтруизм», которые он защищал как полезные чеканки.[5] В своей книге The Data of Ethics (1879), Спенсер дал свое новое определение термину «альтруизм», используя его не для обозначения какого-то морального намерения или гуманистического идеала, как это делал Конт, а для обозначения поведения животных. .
Он резко критиковал почти все аспекты мысли Конта, но заимствовал у него термины «социология» и «альтруизм», которые он защищал как полезные чеканки.[5] В своей книге The Data of Ethics (1879), Спенсер дал свое новое определение термину «альтруизм», используя его не для обозначения какого-то морального намерения или гуманистического идеала, как это делал Конт, а для обозначения поведения животных. .
Спенсер переопределил «альтруизм» так, чтобы он означал «все действия, которые при нормальном ходе вещей приносят пользу другим, а не себе». простейших существ, и особенно в эволюции родительских инстинктов, которые в конечном счете развились в социальную симпатию. В широком определении Спенсера «акты автоматического альтруизма» должны были быть включены наряду с актами сознательной мотивации. Расщепление простейших одноклеточных организмов, таких как инфузории или простейшие, в процессе размножения также должно было квалифицироваться как акт «физического альтруизма»[6].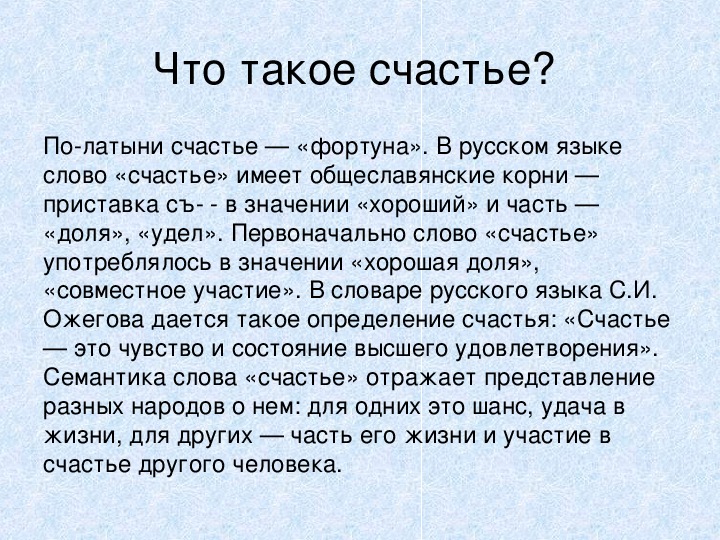
Обложка The Selfish Gene, (c) Oxford University Press, 1976.
Почти ровно сто лет спустя Ричард Докинз прославился, когда его книга The Selfish Gene была опубликована в 1976 году. В то время как Спенсер учил, что альтруизм был присущ всем животным на протяжении всего эволюционного процесса, Докинз писал, что те, кто надеется построить более кооперативное общество, могут ожидать «небольшой помощи от биологической природы». Вместо этого Докинз увещевал своих читателей: «Давайте попробуем научить щедрости и альтруизма, потому что мы рождаемся эгоистичными». «Мы, единственные на земле, — писал Докинз, — можем восстать против тирании эгоистичных репликаторов».[7] Однако на этом история не заканчивается, поскольку Докинз еще раз задумался об альтруизме и в своем атеистическом манифесте «Бог как иллюзия » (2007) утверждал, что альтруизм по отношению к неродственникам был «ошибкой» запрограммированного инстинкта, который развился через «родственный отбор» в пользу организмов, которые сотрудничали с близкими родственниками.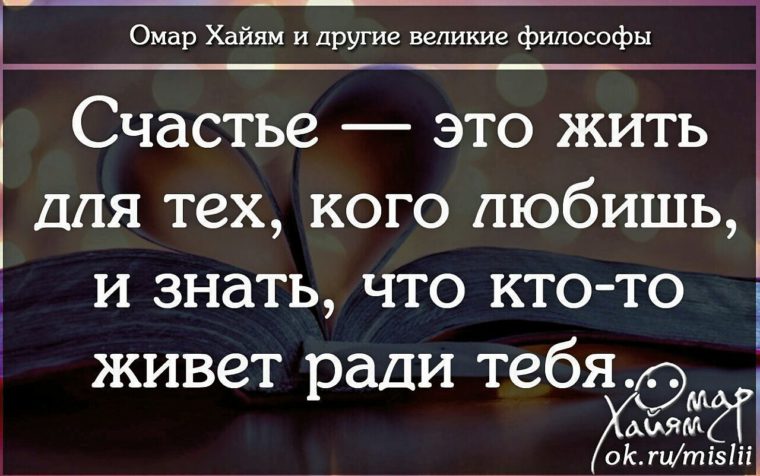 Мы привыкли жить группами, состоящими в основном из близких родственников, утверждает аргумент, поэтому наша доброта и альтруизм почти всегда были в пользу наших генетических родственников. Сегодня мы продолжаем испытывать жалость и проявлять великодушие к окружающим, хотя они, как правило, не являются нашими близкими родственниками. Это осечка — дарвиновская ошибка, но, как добавляет Докинз, «благословенная» и «драгоценная» ошибка. [8] Похоже, Докинз считает, что мы рождаемся альтруистами.
Мы привыкли жить группами, состоящими в основном из близких родственников, утверждает аргумент, поэтому наша доброта и альтруизм почти всегда были в пользу наших генетических родственников. Сегодня мы продолжаем испытывать жалость и проявлять великодушие к окружающим, хотя они, как правило, не являются нашими близкими родственниками. Это осечка — дарвиновская ошибка, но, как добавляет Докинз, «благословенная» и «драгоценная» ошибка. [8] Похоже, Докинз считает, что мы рождаемся альтруистами.
Докинз, возможно, изменил свои представления о естественности альтруизма, но в обоих случаях его труды иллюстрируют общую философскую проблему, а именно трудность перехода с помощью рациональных аргументов от наблюдения о природе к этическому императиву, совершая путешествие от «есть ‘ до ‘должен’. С этой проблемой сталкивается каждый, кто пытается построить «эволюционную этику». В случае цитаты из книги «Эгоистичный ген » мы могли бы спросить, почему бы не культивировать индивидуализм, а не альтруизм? И читатели Бог-Иллюзия мог бы разумно задаться вопросом, почему Докинз считает альтруистические побуждения «благословенной» и «драгоценной» ошибкой, а не неудобной и нежелательной неисправностью.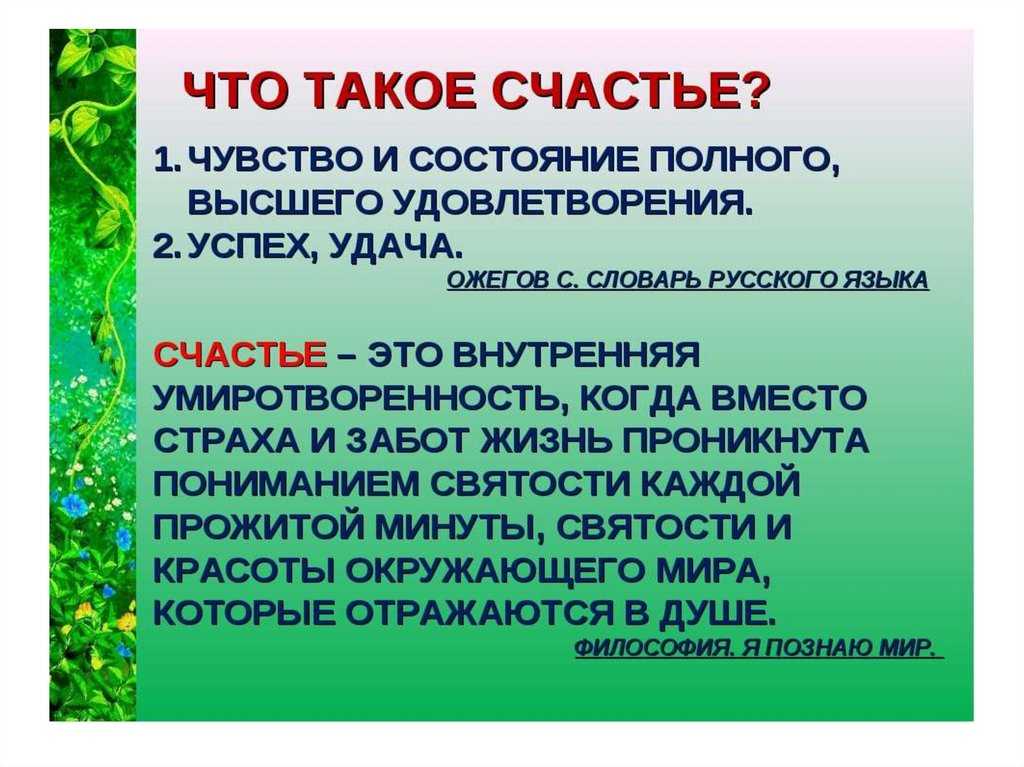 В обоих случаях собственное этическое предпочтение Докинза альтруизму, кажется, было безосновательно перенесено в якобы научную дискуссию.
В обоих случаях собственное этическое предпочтение Докинза альтруизму, кажется, было безосновательно перенесено в якобы научную дискуссию.
Итак, созерцаем ли мы произведения искусства на телеэкране или читаем научно-популярные книги, мы можем в любой момент обнаружить просачивающиеся философские идеи и предположения. Немного знаний о философской истории нашего повседневного языка может помочь нам сохранять бдительность.
Ссылки
[1] Томас Диксон, Изобретение альтруизма: создание моральных смыслов в викторианской Британии (Оксфорд: Издательство Оксфордского университета для Британской академии, 2008).
[2] Фредерик В. Фаррар, Свидетельство Христа в истории (Лондон: Macmillan, 1871), стр. 144–146; см. также Диксон, Изобретение альтруизма , главы 3 и 7.
[3] Томас Л. Акехерст, Культурная политика аналитической философии: британскость и призрак Европы (Лондон: Continuum, 2010), особенно глава 1.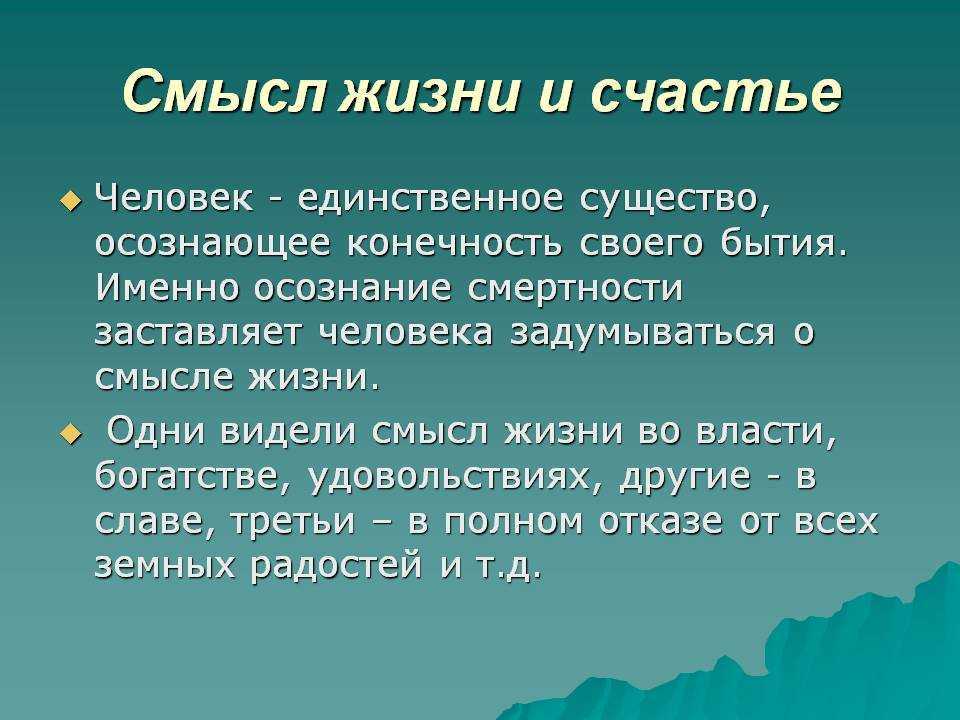
[4] John Stuart Mill, On Liberty (1859), in Собрание сочинений Джона Старта Милля , 33 тома, изд. Джон М. Робсон и др. . (Торонто: University of Toronto Press, 1963–1991), v ol. 18, с. 227.
[5] Диксон, Изобретение альтруизма , стр. 202–206.
[6] Herbert Spencer, The Data of Ethics (London: Williams and Norgate, 1879), стр. 201–202; см. также Диксон, 9 лет0003 Изобретение альтруизма , глава 5.
[7] Ричард Докинз, Эгоистичный ген , новое издание (Оксфорд: издательство Оксфордского университета, 1989), стр. 3, 200–201; оригинальная публикация 1976 г.
[8] Ричард Докинз, The God Delusion (Лондон: Bantam Press, 2006), с. 253.
Дополнительная литература
Хелена Кронин, Муравей и павлин: альтруизм и сексуальный отбор от Дарвина до наших дней (Кембридж: Cambridge University Press, 1991).
Томас Диксон, Изобретение альтруизма: создание моральных смыслов в викторианской Британии (Оксфорд: Издательство Оксфордского университета для Британской академии, 2008).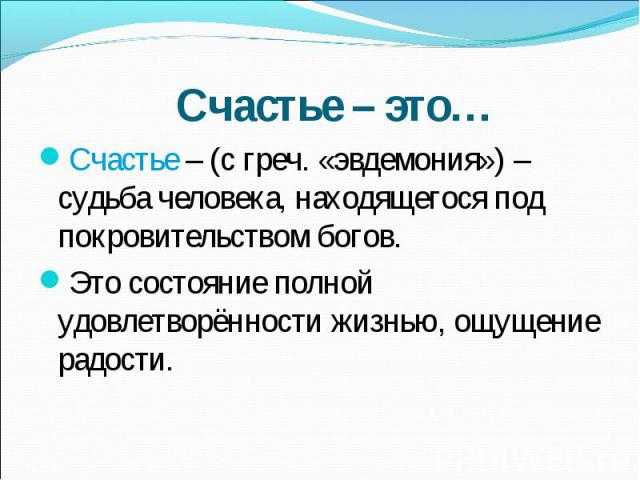
Ферн Элсдон-Бейкер, Эгоистичный гений: как Ричард Докинз переписал «Наследие Дарвина » (Лондон: Icon, 2009).
Жюль Эванс, «Установите элементы управления для сердца счастья», Блог Philosophy for Life , 19 октября 2012 г.
Мартин А. Новак и Сара Коакли (редакторы), Эволюция, игры и Бог: принцип сотрудничества (Кембридж, Массачусетс: издательство Гарвардского университета, 2013 г.),
Самир Окаша, «Биологический альтруизм», Стэнфордская философская энциклопедия (осеннее издание 2013 г.), изд. Эдвард Н. Залта.
Адам Филлипс и Барбара Тейлор, О доброте (Лондон: Хэмиш Гамильтон, 2009).
Эта запись была размещена в разделе Философские ключевые слова и помечена как альтруизм, искусство, Огюст Конт, этика, эволюция, счастье, Герберт Спенсер, доброта, Майкл Лэнди, религия, Ричард Докинз, наука на Томас Диксон.
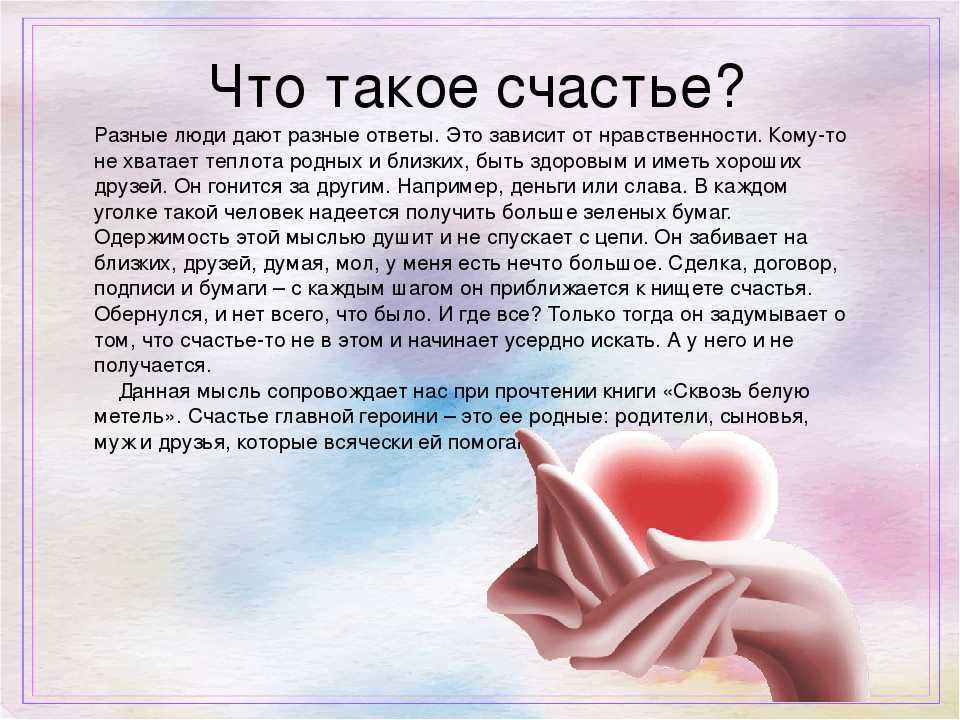
Гордо работает на WordPress
Счастье — Философская энциклопедия Routledge
Поделиться
Загрузка контента
Нам не удалось загрузить контент
Печать
Содержание
- Резюме статьи
1
Обычное понятие
2
Понятие в философии
3
«Благополучие», «благосостояние», «полезность» и «качество жизни»
- Библиография
Тематический
- К
- Гриффин, Дж.П.
DOI
10.4324/9780415249126-L033-1
Версии
содержимое заблокировано
версия 2
контент разблокирован
версия 1
DOI: 10.4324/9780415249126-L033-1
Версия: v1, Опубликовано в Интернете: 1998
Получено 20 февраля 2023 г. с https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/happiness/v-1
В обычном употреблении слово «счастье» имеет отношение к ситуации (кто-то удачлив) или к своему душевному состоянию (кто-то рад, весел) или, как правило, к тому и другому.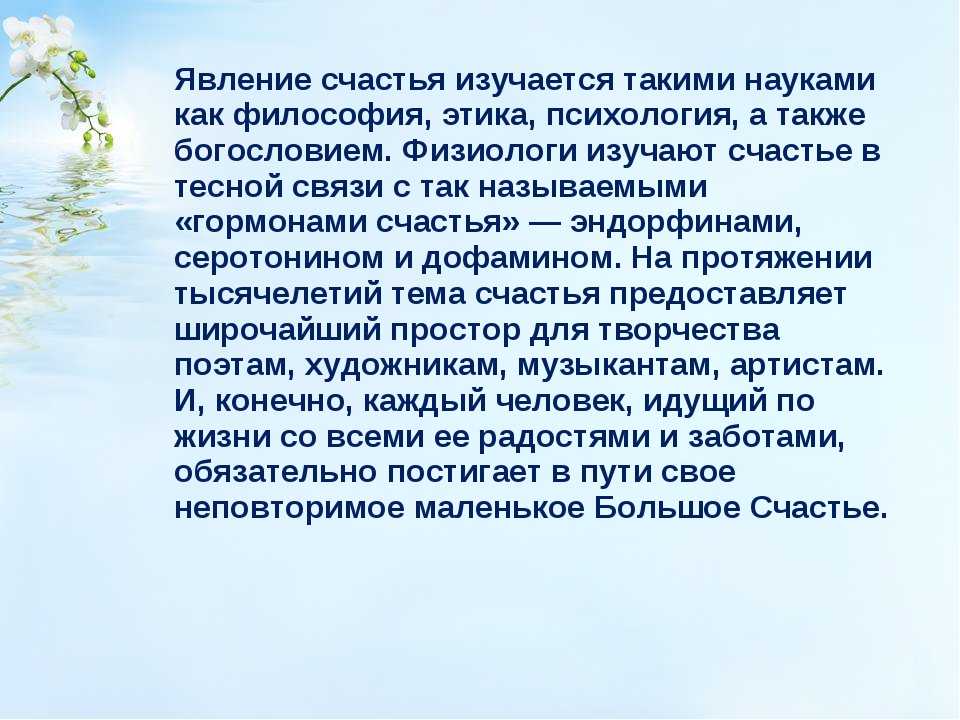 Эти два элемента проявляются в разных пропорциях в разных случаях. Если человек озабочен длительным периодом времени (как в случае со «счастливой жизнью»), он, скорее всего, больше сосредоточится на ситуации, чем на состоянии ума. Если короткий период времени, то нередко можно сосредоточиться на состояниях ума.
Эти два элемента проявляются в разных пропорциях в разных случаях. Если человек озабочен длительным периодом времени (как в случае со «счастливой жизнью»), он, скорее всего, больше сосредоточится на ситуации, чем на состоянии ума. Если короткий период времени, то нередко можно сосредоточиться на состояниях ума.
В целом философов больше интересуют долгосрочные дела. Жизнь человека счастлива, если он доволен тем, что жизнь принесла ему многое из того, что он считает важным. В этих жизненных оценках есть тяга к объективной ситуации человека и от субъективных реакций человека. Важным понятием для этики является «благополучие», то есть понятие того, что делает индивидуальную жизнь благополучной. «Счастье» важно, потому что многие философы думали, что счастье — это единственное, что способствует благополучию, или потому, что они использовали слово «счастье» для обозначения того же, что и «благополучие».
Что же тогда делает жизнь хорошей? Некоторые думали, что это было присутствие положительного эмоционального тона.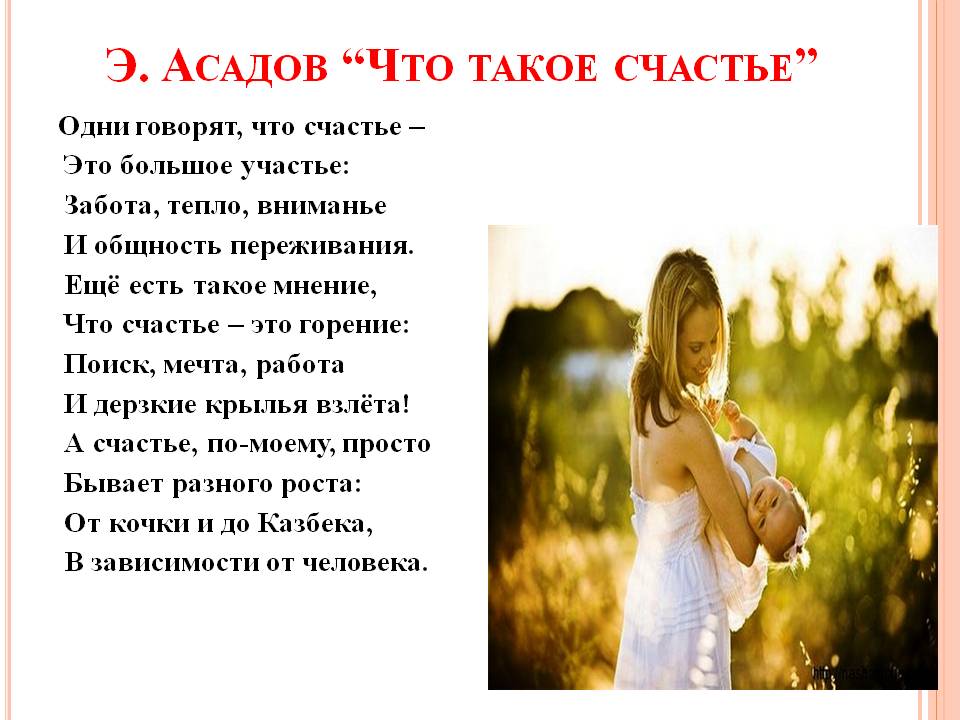
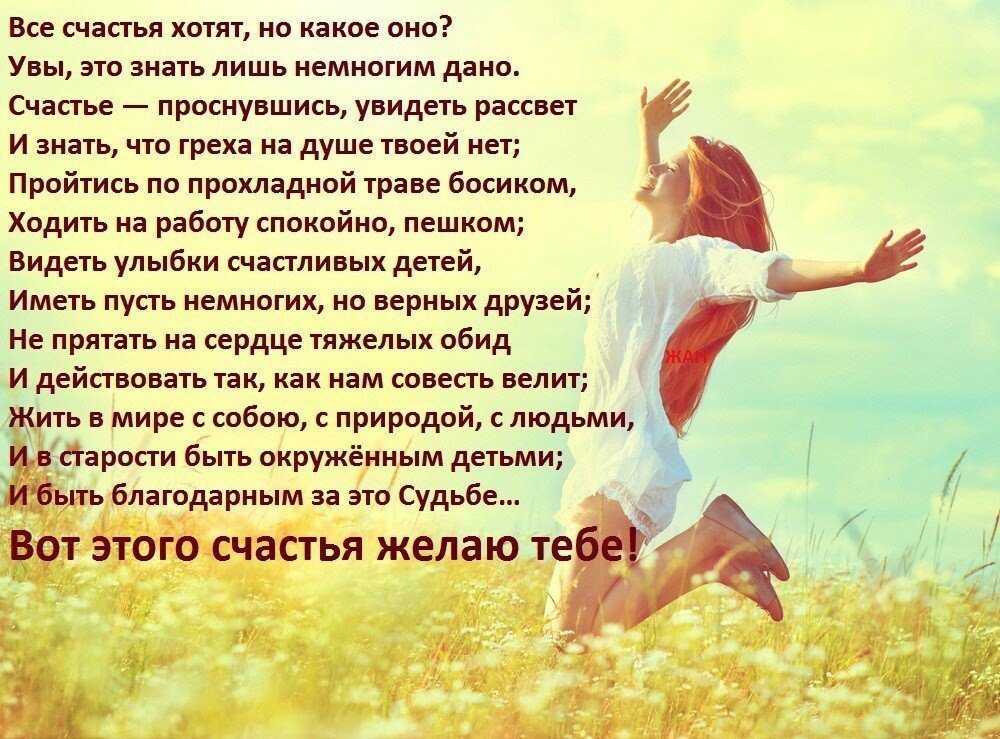 [8]
[8]  [11]
[11]